трек «Интернет-исследования»
клуб любителей участвует в запуске направления «интернет-исследования» в магистратуре ИТМО по цифровым гуманитарным наукам. подробности — на сайте центра. набор идёт!
Инфраструктура и модерн:
сила, время и социальная организация
в истории социотехнических систем
сила, время и социальная организация
в истории социотехнических систем
перевод статьи Пола Эдвардса
Автор перевода: Антон Боровиков
Редакторы перевода: Лёня Юлдашев и Армен Арамян
Оригинальный текст: Edwards P. N. Infrastructure and Modernity: Force, Time, and Social Organization in the History of Sociotechnical Systems // Modernity and Technology. — Cambridge, MA: MIT Press, 2003. — pp. 185−226.
В оформлении использованы открытки из серии «Франция в XXI веке» (En L'An 2000)
Перевод выполнен для журнала «Докса». Это републикация.
Редакторы перевода: Лёня Юлдашев и Армен Арамян
Оригинальный текст: Edwards P. N. Infrastructure and Modernity: Force, Time, and Social Organization in the History of Sociotechnical Systems // Modernity and Technology. — Cambridge, MA: MIT Press, 2003. — pp. 185−226.
В оформлении использованы открытки из серии «Франция в XXI веке» (En L'An 2000)
Перевод выполнен для журнала «Докса». Это републикация.
Сергей Мохов, антрополог:
Статья Пола Эдвардса за прошедшие после её публикации 15 лет успела стать классикой среди социальных исследователей инфраструктур. Несмотря на достаточно редукционистский взгляд на инфраструктуру, его статья обращает внимание на крайне важную связь между такими, казалось бы, весьма понятными и простыми категориями, как время, пространство, масштабы и размер, и тем, как устроена наша социальная жизнь. Эдвардс показывает, что сама идея материально-технической инфраструктуры в том виде, к которому мы привыкли, обязана своему появлению и становлению именно эпохе модерна с его акцентом на национальные государства, унификацию, капитализм и серьёзные сети обмена ресурсами. Статья может показаться немного устаревшей, что вполне естественно и справедливо для текстов 15-летней давности, однако, подобная классика должна быть доступна на русском языке страждущим читателям.
Статья Пола Эдвардса за прошедшие после её публикации 15 лет успела стать классикой среди социальных исследователей инфраструктур. Несмотря на достаточно редукционистский взгляд на инфраструктуру, его статья обращает внимание на крайне важную связь между такими, казалось бы, весьма понятными и простыми категориями, как время, пространство, масштабы и размер, и тем, как устроена наша социальная жизнь. Эдвардс показывает, что сама идея материально-технической инфраструктуры в том виде, к которому мы привыкли, обязана своему появлению и становлению именно эпохе модерна с его акцентом на национальные государства, унификацию, капитализм и серьёзные сети обмена ресурсами. Статья может показаться немного устаревшей, что вполне естественно и справедливо для текстов 15-летней давности, однако, подобная классика должна быть доступна на русском языке страждущим читателям.
Введение
Самое заметное свойство технологиив модерном [1] (индустриальном и постиндустриальном) мире — то, что для большинства людей технология остаётся незаметной.
Это по-прежнему так, несмотря на весь шум от Вавилонской башни споров о «технологиях». Обсуждение технологий редко затрагивает весь набор социотехнических систем, характерных для модерных обществ. Вместо этого в каждый отдельный момент большая часть дискуссий связана с «высокими технологиями», т. е. новыми или быстро развивающимися. Сегодня это носимые гаджеты, генетически модифицированная еда, система GPS-навигации и интернет. Телевидение, домашняя сантехника или обычный телефон — Новые Великие Изобретения вчерашнего дня — вызывают только скуку. При этом изобретения куда как более значимые исторически, например, керамика, шурупы, навыки плетения и бумага, уже не считаются «технологиями». Возможно, развивающиеся рынки высокотехнологичных товаров влияют на производство значительной части техно-дискурса. Корпорации, правительства и рекламодатели тратят огромные ресурсы на то, чтобы удержать эти товары на переднем крае нашего внимания — в чём мы часто не отдаём себе отчёта. Неудивительно, что им это удаётся.
Однако остаётся фактом, что устоявшиеся технологические системы — автомобили, дороги, коммунальное водоснабжение, канализация, телефоны, железные дороги, прогнозы погоды, здания и компьютеры (в самом распространённом способе их использования [2]), стали естественным фоном нашей повседневности, как деревья, дневной свет или грязь. Наша цивилизация основательно зависит от них, хотя мы замечаем это, как правило, в редкие моменты сбоев. Устоявшиеся технологические системы являются соединительными тканями и кровеносными сосудами модерности. Если коротко, эти системы стали инфраструктурами.
Основная идея этой статьи заключается в том, что инфраструктуры формируют состояние модерности и формируются им, иными словами, они находятся в процессе со-конструирования. Связывая между собой макро-, мезо- и микро- масштабы времени, пространства и социальной организации [3], они образуют устойчивое основание модерных социальных миров.
Самое заметное свойство технологиив модерном [1] (индустриальном и постиндустриальном) мире — то, что для большинства людей технология остаётся незаметной.
Это по-прежнему так, несмотря на весь шум от Вавилонской башни споров о «технологиях». Обсуждение технологий редко затрагивает весь набор социотехнических систем, характерных для модерных обществ. Вместо этого в каждый отдельный момент большая часть дискуссий связана с «высокими технологиями», т. е. новыми или быстро развивающимися. Сегодня это носимые гаджеты, генетически модифицированная еда, система GPS-навигации и интернет. Телевидение, домашняя сантехника или обычный телефон — Новые Великие Изобретения вчерашнего дня — вызывают только скуку. При этом изобретения куда как более значимые исторически, например, керамика, шурупы, навыки плетения и бумага, уже не считаются «технологиями». Возможно, развивающиеся рынки высокотехнологичных товаров влияют на производство значительной части техно-дискурса. Корпорации, правительства и рекламодатели тратят огромные ресурсы на то, чтобы удержать эти товары на переднем крае нашего внимания — в чём мы часто не отдаём себе отчёта. Неудивительно, что им это удаётся.
Однако остаётся фактом, что устоявшиеся технологические системы — автомобили, дороги, коммунальное водоснабжение, канализация, телефоны, железные дороги, прогнозы погоды, здания и компьютеры (в самом распространённом способе их использования [2]), стали естественным фоном нашей повседневности, как деревья, дневной свет или грязь. Наша цивилизация основательно зависит от них, хотя мы замечаем это, как правило, в редкие моменты сбоев. Устоявшиеся технологические системы являются соединительными тканями и кровеносными сосудами модерности. Если коротко, эти системы стали инфраструктурами.
Основная идея этой статьи заключается в том, что инфраструктуры формируют состояние модерности и формируются им, иными словами, они находятся в процессе со-конструирования. Связывая между собой макро-, мезо- и микро- масштабы времени, пространства и социальной организации [3], они образуют устойчивое основание модерных социальных миров.
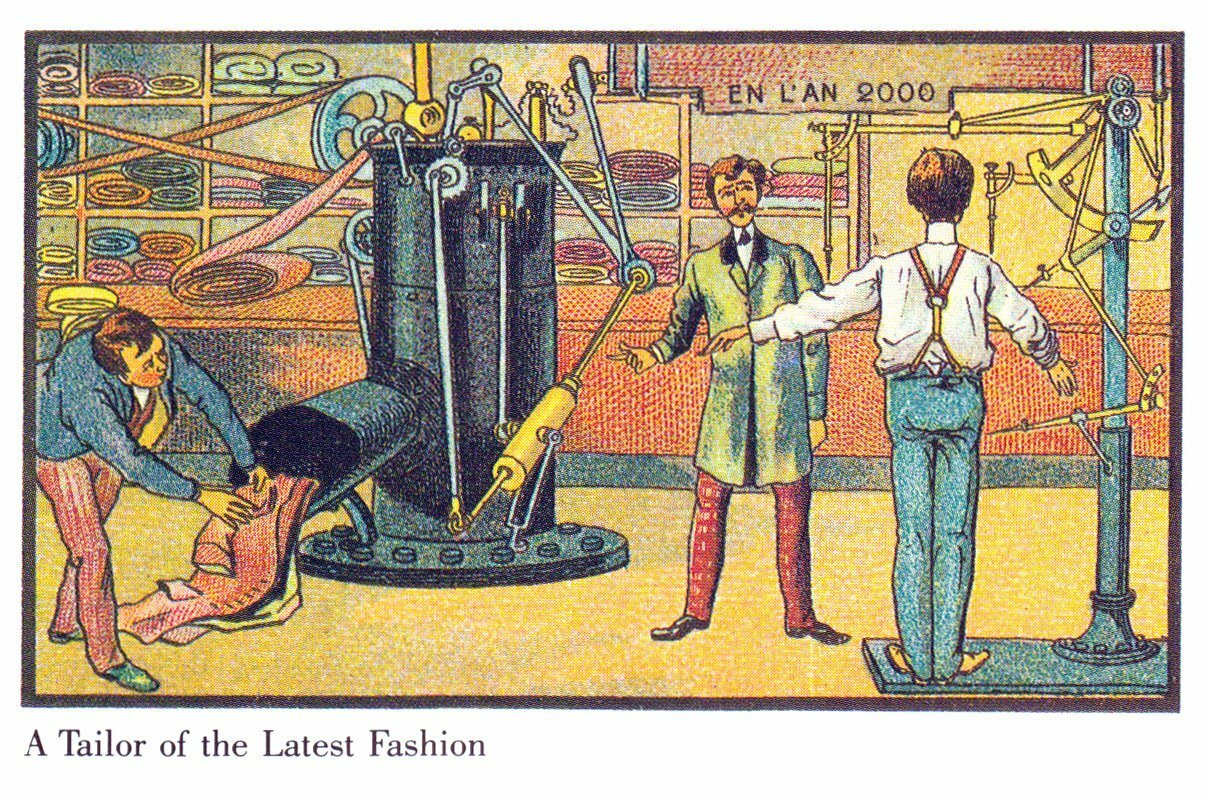
Быть модерным значит жить внутри и с помощью использования инфраструктур и, следовательно, пребывать — испытывая некоторое неудобство — на пересечении этих масштабов. В то же время, эмпирические исследования инфраструктур вскрывают глубинное напряжение, связанное с тем, что Латур недавно назвал «нововременной установкой» — общественный договор, который отделяет природу, общество и технологии друг от друга, как если бы они были онтологически независимы друг от друга (Latour 1999). Глубокое исследование этих многоуровневых взаимосвязей позволяет увидеть не только со-конструирование, но и со-деконструкцию предположительно господствующих идеологий модерна.
Чтобы развить эти идеи, я начну с прояснения того, как инфраструктуры выступают для нас — в теории и на практике — в качестве среды, социального окружения, и невидимого, незаметного основания самой модерности. Дальше я перейду к методологическому вопросу, который повлиял на всю историографию: это вопрос к масштабу. Как выглядят инфраструктуры, если их рассматривать на разных масштабах силы, времени и социальной организации? Как отмечает Филипп Брей во второй статье этого сборника, «главное препятствие на пути соединения теорий модерности и исследований технологий состоит в том, что исследования технологий большей частью имеют дело с микро- (и мезо-) уровнями, тогда как теории модерности — с макро-уровнем». Я утверждаю, что инфраструктура — и в теории, и на практике — соединяет эти уровни и указывает путь для понимания их взаимоотношений. В последней части статьи я применю эти методы и аргументы к некоторым примерам из истории инфраструктур, включая интернет и систему противовоздушной обороны SAGE [4]. Эти размышления в конечном счёте приводят меня к выводам (созвучным идеям Брея): социальный конструктивизм как центральный концепт в исследованиях технологий и понятие «модерности» в теории модерна в значительной степени обусловлены выбором масштаба для проведения анализа. Многоуровневый подход, основанный на идее инфраструктуры, может стать средством от слепоты обоих этих подходов.
Что такое инфраструктура?
Слово «инфраструктура» возникло в языке военных для обозначения фиксированных объектов, таких как воздушные базы (Oxford English Dictionary). Сегодня оно превратилось в размытый термин, который часто используется для обозначения любых важных, широко распространённых технических ресурсов, созданных человеком. Словарь «American Heritage Dictionary» определяет это понятие как (1) «базу или основание, особенно для организации или системы», и (2) «основные устройства, службы и сооружения, которые необходимы для функционирования отдельных сообществ или общества в целом, такие как транспортная система, система связи, водопровод или линия электропередач, и общественные учреждения, включая школы, почтовые отделения и тюрьмы». В 1996—1997 годах Американская комиссия по защите критически важной инфраструктуры (PPCIP, US Commission on Critical Infrastructure Protection) положила в основание своего собственного определения инфраструктуры следующие сферы:
· транспорт;
· добыча и хранение нефти и газа;
· водоснабжение
· службы спасения;
· государственные службы;
· банки и финансы;
· электроэнергетика;
· средства информации и коммуникации.
Далее комиссия разъяснила:
«Под инфраструктурой… мы подразумеваем сеть независимых, преимущественно частных, созданных человеком систем и процессов, которые совместно и коллективно работают на производство и распределение непрерывного потокa товаров и услуг (Президентская комиссия по защите критически важной инфраструктуры, 1997)».
Лозунги свободного рынка не должны отвлекать нас от главного понятия в этом разъяснении: поток. Мануэль Кастельс, один из немногих ученых, который преуспел в подробном описании тесного взаимодействия между социотехническими инфраструктурами и общими моделями культурных, экономических, психологических и исторических изменений XX века, называет эти отношения «сетевой структурой» (Castells, 1996). Учитывая гетерогенный характер систем и институций, к которым отсылает это понятие, возможно, лучше всего определить «инфраструктуру"негативно как системы, без которых современное общество существовать не может.
Хотя «инфраструктура» часто используется как синоним понятия «оборудование», интересно, что ни одно из вышеприведённых определений не помещает в центр внимания характеристики собственно оборудования. Историки, социологи и антропологи технологий всё чаще признают, что все инфраструктуры (то есть все «технологии») на самом деле социотехничны по своей природе. Не только «оборудование», но и организации, базовые знания, которые передаются посредством коммуникации, общее одобрение и доверие и едва ли не повсеместный доступ необходимы для того, чтобы система была инфраструктурой в том смысле, который я здесь подразумеваю.
Стоит сделать одну оговорку. Определение инфраструктуры как невидимого, постоянно поддерживаемого фона «работает» только в развитых странах. На глобальном Юге (за неимением лучшего термина) инфраструктуры могут работать по-другому. Электросети и телефонная связь регулярно выходят из строя, нередко это случается каждый день; дороги, если они вообще есть, могут быть перегружены сверх меры; компьютерные сети работают очень медленно (если вообще работают). Я не буду пытаться совместить слишком разные — но одинаково «модерные» — инфраструктурные нормы в одной статье, обрекая себя на специфическую форму идеализма, а именно на перекос в сторону западных стран. Взамен я просто указываю на эту погрешность там, где она имеет место, и отмечаю, что любая полноценная теория модерности и технологий должна справиться с этой дополнительной степенью сложности. Другие тексты в этом сборнике — особенно Сталлера и Хана — начинают движение в этом направлении.
Чтобы развить эти идеи, я начну с прояснения того, как инфраструктуры выступают для нас — в теории и на практике — в качестве среды, социального окружения, и невидимого, незаметного основания самой модерности. Дальше я перейду к методологическому вопросу, который повлиял на всю историографию: это вопрос к масштабу. Как выглядят инфраструктуры, если их рассматривать на разных масштабах силы, времени и социальной организации? Как отмечает Филипп Брей во второй статье этого сборника, «главное препятствие на пути соединения теорий модерности и исследований технологий состоит в том, что исследования технологий большей частью имеют дело с микро- (и мезо-) уровнями, тогда как теории модерности — с макро-уровнем». Я утверждаю, что инфраструктура — и в теории, и на практике — соединяет эти уровни и указывает путь для понимания их взаимоотношений. В последней части статьи я применю эти методы и аргументы к некоторым примерам из истории инфраструктур, включая интернет и систему противовоздушной обороны SAGE [4]. Эти размышления в конечном счёте приводят меня к выводам (созвучным идеям Брея): социальный конструктивизм как центральный концепт в исследованиях технологий и понятие «модерности» в теории модерна в значительной степени обусловлены выбором масштаба для проведения анализа. Многоуровневый подход, основанный на идее инфраструктуры, может стать средством от слепоты обоих этих подходов.
Что такое инфраструктура?
Слово «инфраструктура» возникло в языке военных для обозначения фиксированных объектов, таких как воздушные базы (Oxford English Dictionary). Сегодня оно превратилось в размытый термин, который часто используется для обозначения любых важных, широко распространённых технических ресурсов, созданных человеком. Словарь «American Heritage Dictionary» определяет это понятие как (1) «базу или основание, особенно для организации или системы», и (2) «основные устройства, службы и сооружения, которые необходимы для функционирования отдельных сообществ или общества в целом, такие как транспортная система, система связи, водопровод или линия электропередач, и общественные учреждения, включая школы, почтовые отделения и тюрьмы». В 1996—1997 годах Американская комиссия по защите критически важной инфраструктуры (PPCIP, US Commission on Critical Infrastructure Protection) положила в основание своего собственного определения инфраструктуры следующие сферы:
· транспорт;
· добыча и хранение нефти и газа;
· водоснабжение
· службы спасения;
· государственные службы;
· банки и финансы;
· электроэнергетика;
· средства информации и коммуникации.
Далее комиссия разъяснила:
«Под инфраструктурой… мы подразумеваем сеть независимых, преимущественно частных, созданных человеком систем и процессов, которые совместно и коллективно работают на производство и распределение непрерывного потокa товаров и услуг (Президентская комиссия по защите критически важной инфраструктуры, 1997)».
Лозунги свободного рынка не должны отвлекать нас от главного понятия в этом разъяснении: поток. Мануэль Кастельс, один из немногих ученых, который преуспел в подробном описании тесного взаимодействия между социотехническими инфраструктурами и общими моделями культурных, экономических, психологических и исторических изменений XX века, называет эти отношения «сетевой структурой» (Castells, 1996). Учитывая гетерогенный характер систем и институций, к которым отсылает это понятие, возможно, лучше всего определить «инфраструктуру"негативно как системы, без которых современное общество существовать не может.
Хотя «инфраструктура» часто используется как синоним понятия «оборудование», интересно, что ни одно из вышеприведённых определений не помещает в центр внимания характеристики собственно оборудования. Историки, социологи и антропологи технологий всё чаще признают, что все инфраструктуры (то есть все «технологии») на самом деле социотехничны по своей природе. Не только «оборудование», но и организации, базовые знания, которые передаются посредством коммуникации, общее одобрение и доверие и едва ли не повсеместный доступ необходимы для того, чтобы система была инфраструктурой в том смысле, который я здесь подразумеваю.
Стоит сделать одну оговорку. Определение инфраструктуры как невидимого, постоянно поддерживаемого фона «работает» только в развитых странах. На глобальном Юге (за неимением лучшего термина) инфраструктуры могут работать по-другому. Электросети и телефонная связь регулярно выходят из строя, нередко это случается каждый день; дороги, если они вообще есть, могут быть перегружены сверх меры; компьютерные сети работают очень медленно (если вообще работают). Я не буду пытаться совместить слишком разные — но одинаково «модерные» — инфраструктурные нормы в одной статье, обрекая себя на специфическую форму идеализма, а именно на перекос в сторону западных стран. Взамен я просто указываю на эту погрешность там, где она имеет место, и отмечаю, что любая полноценная теория модерности и технологий должна справиться с этой дополнительной степенью сложности. Другие тексты в этом сборнике — особенно Сталлера и Хана — начинают движение в этом направлении.
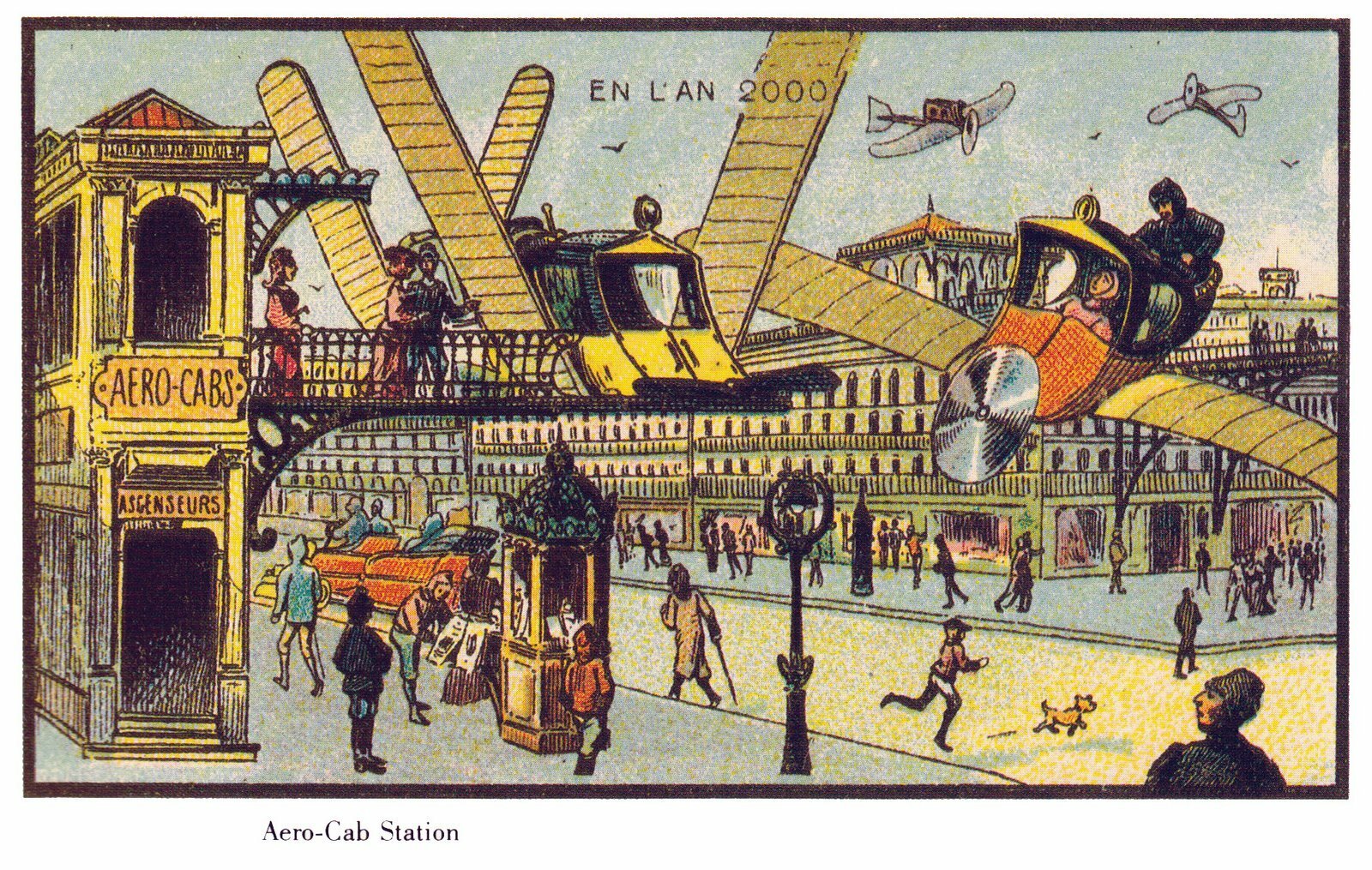
Инфраструктура и/как окружающая среда
Как я уже замечал, инфраструктуры во многом отвечают за чувство стабильности жизни в развитом мире, за ощущение, что всё идёт своим чередом и будет так идти дальше, не вынуждая пользователей думать или действовать, за исключением оплаты ежемесячных счетов. Эта стабильность имеет много измерений, и большинство из них напрямую связаны со специфической природой самой модерности.
Среди этих измерений можно выделить системный контроль в пределах всего общества над разнообразием, свойственным природной среде. Инфраструктуры дают возможность (к примеру) регулировать комнатную температуру или зажечь свет, — где бы и когда бы мы этого ни хотели, — набрать из крана сколько угодно чистой воды, купить свежие фрукты и овощи зимой. Кроме того, это контроль над временем и пространством: работать, играть или спать по собственному расписанию, мгновенно связываться с другими, почти не принимая во внимание их физическое расположение, направляться куда бы мы ни захотели со скоростью, оставляющей далеко позади темп прогулочного шага. Эти возможности позволяют и, может быть, заставляют нас относиться к природе как к товару потребления — к тому, что может быть использовано (или не использовано), когда бы мы ни захотели (Nye 1997). Инфраструктуры образуют искусственную среду, которая направляет и/или воспроизводит те свойства естественной среды, которые мы считаем наиболее практичными и удобными, а также обеспечивает нас теми свойствами, которые в естественной среде не присутствуют. Они также исключают те свойства, которые мы считаем опасными, неудобными или же просто неподходящими. Вместе с тем инфраструктуры определяют наше переживание естественной среды как товара, как объекта романтических/пасторальных эмоций и эстетических чувств, или как временной помехи. К тому же они структурируют природу как ресурс, топливо или «сырьё», которое должно приобрести форму под воздействием технологических средств для реализации человеческих целей.
Выстраивание инфраструктуры, соответственно, это ещё и выстраивание особого вида природы, Природы как Другого по отношению к обществу и технологиям. Это фундаментальное разделение — один из ключевых аспектов «нововременной установки» (modernist settlement) Латура.
Инфраструктура и/как общество
Схожим образом инфраструктуры находятся в процессе со-конструирования с обществом и технологиями, при этом удерживая онтологические различия между ними.
Как отмечают Ли Стар и Карен Рухледер, знания об инфраструктурах «усваиваются по мере участия» в сообществах (см. также Bowker & Star 1999, 35; Star & Ruhleder 1996). Более того, это знание на самом деле является необходимым условием участия. В случае большинства вышеперечисленных инфраструктур, эти сообщества включают чуть ли не всех членов обществ в развитых странах. Степень распространённости и усвоенности такого знания в большой мере объясняет ощущения близости или экзотичности, которые бывают у нас во время путешествий. Общества, чьи инфраструктуры решительно отличаются от наших, кажутся более экзотическими, чем те, чьи инфраструктуры похожи на наши. Принадлежать к конкретной культуре — это, в частности, свободно владеть её инфраструктурами. Это почти то же самое, что свободное владение языком: скорее практические «ноу-хау», чем знание правил. Вопрос чужака не просто сбивает с толку и вызывает смех — на него невозможно ответить. Инфраструктурное знание — это «форма жизни» в терминологии Витгенштейна (form of life, lebensform), это условие контекстуальности, которое предполагает, что понимание любой части требует охвата целого, что возможно только посредством опыта (Edwards 1996; Wittgenstein 1958). В этом смысле инфраструктуры конституируют общество.
В то же самое время мы относимся к инфраструктурам и к обществу как к чему-то онтологически различному. Например, причины инфраструктурных аварий, таких как отключение электричества или телефона, почти всегда бывают представлены либо как «человеческая ошибка», что позволяет кодировать проблему как индивидуальную и предполагает поиск виновных, либо как технический сбой. Социальные причины упоминаются редко, несмотря на то, что большинство аварий было бы лучше объяснить через сложные взаимоотношения между операторами, системами, природными условиями и общественными ожиданиями (Vaughan 1996). Перебои в электричестве или дорожные пробки заставляют многих из нас думать скорее о провисших проводах на линии электропередач или о плохих дорогах, а не о том, как наше общество сконструировано вокруг этих технологий и зависит от них. Что же до тех немногочисленных людей (из развитых стран), которые выбрали жизнь без электричества и автомобилей, — мы обычно считаем их чудаками, которые «вернулись назад в прошлое» или «живут в другую эпоху»; они как бы выбрали не быть модерными (Kraybill & Olshan 1994).
Аналогичным образом понятие технической аварии кодирует инфраструктуру как «оборудование» (Perrow 1984). Но большую часть этих сбоев можно предугадать и предотвратить на этапе производства и/или техобслуживания, что в свою очередь требует хорошо организованных социальных обязательств. (La Porte 1991; La Porte & Consolini 1991; Rochlin 1997; Sagan 1993). Удивительно низкое число несчастных случаев в секторе коммерческого воздушного транспорта, к примеру, отражает в равной степени успешную работу надзорных организаций, правового аппарата, общественную осведомлённость об авариях и качество изготовления самолётов (La Porte 1988). Тем не менее, для большинства пассажиров социальная составляющая безопасного авиаперелёта более ощутима, чем самолёты, в которых они летают; люди гораздо сильнее обеспокоены состоянием самолёта, чем персоналом центра управления полётами, FAA (Federal Aviation Agency, Федеральное авиационное агентство (США), и контролем воздушного трафика. Значит, пока инфраструктуры работают в качестве бесшовной спайки между «оборудованием», внутренней социальной организацией и более широкими социальными структурами, наше обыденное восприятие инфраструктур создаёт «чёрный ящик», который предполагает риторическое разделение общества и технологий в «нововременной установке» (Latour 1999).
Как я уже замечал, инфраструктуры во многом отвечают за чувство стабильности жизни в развитом мире, за ощущение, что всё идёт своим чередом и будет так идти дальше, не вынуждая пользователей думать или действовать, за исключением оплаты ежемесячных счетов. Эта стабильность имеет много измерений, и большинство из них напрямую связаны со специфической природой самой модерности.
Среди этих измерений можно выделить системный контроль в пределах всего общества над разнообразием, свойственным природной среде. Инфраструктуры дают возможность (к примеру) регулировать комнатную температуру или зажечь свет, — где бы и когда бы мы этого ни хотели, — набрать из крана сколько угодно чистой воды, купить свежие фрукты и овощи зимой. Кроме того, это контроль над временем и пространством: работать, играть или спать по собственному расписанию, мгновенно связываться с другими, почти не принимая во внимание их физическое расположение, направляться куда бы мы ни захотели со скоростью, оставляющей далеко позади темп прогулочного шага. Эти возможности позволяют и, может быть, заставляют нас относиться к природе как к товару потребления — к тому, что может быть использовано (или не использовано), когда бы мы ни захотели (Nye 1997). Инфраструктуры образуют искусственную среду, которая направляет и/или воспроизводит те свойства естественной среды, которые мы считаем наиболее практичными и удобными, а также обеспечивает нас теми свойствами, которые в естественной среде не присутствуют. Они также исключают те свойства, которые мы считаем опасными, неудобными или же просто неподходящими. Вместе с тем инфраструктуры определяют наше переживание естественной среды как товара, как объекта романтических/пасторальных эмоций и эстетических чувств, или как временной помехи. К тому же они структурируют природу как ресурс, топливо или «сырьё», которое должно приобрести форму под воздействием технологических средств для реализации человеческих целей.
Выстраивание инфраструктуры, соответственно, это ещё и выстраивание особого вида природы, Природы как Другого по отношению к обществу и технологиям. Это фундаментальное разделение — один из ключевых аспектов «нововременной установки» (modernist settlement) Латура.
Инфраструктура и/как общество
Схожим образом инфраструктуры находятся в процессе со-конструирования с обществом и технологиями, при этом удерживая онтологические различия между ними.
Как отмечают Ли Стар и Карен Рухледер, знания об инфраструктурах «усваиваются по мере участия» в сообществах (см. также Bowker & Star 1999, 35; Star & Ruhleder 1996). Более того, это знание на самом деле является необходимым условием участия. В случае большинства вышеперечисленных инфраструктур, эти сообщества включают чуть ли не всех членов обществ в развитых странах. Степень распространённости и усвоенности такого знания в большой мере объясняет ощущения близости или экзотичности, которые бывают у нас во время путешествий. Общества, чьи инфраструктуры решительно отличаются от наших, кажутся более экзотическими, чем те, чьи инфраструктуры похожи на наши. Принадлежать к конкретной культуре — это, в частности, свободно владеть её инфраструктурами. Это почти то же самое, что свободное владение языком: скорее практические «ноу-хау», чем знание правил. Вопрос чужака не просто сбивает с толку и вызывает смех — на него невозможно ответить. Инфраструктурное знание — это «форма жизни» в терминологии Витгенштейна (form of life, lebensform), это условие контекстуальности, которое предполагает, что понимание любой части требует охвата целого, что возможно только посредством опыта (Edwards 1996; Wittgenstein 1958). В этом смысле инфраструктуры конституируют общество.
В то же самое время мы относимся к инфраструктурам и к обществу как к чему-то онтологически различному. Например, причины инфраструктурных аварий, таких как отключение электричества или телефона, почти всегда бывают представлены либо как «человеческая ошибка», что позволяет кодировать проблему как индивидуальную и предполагает поиск виновных, либо как технический сбой. Социальные причины упоминаются редко, несмотря на то, что большинство аварий было бы лучше объяснить через сложные взаимоотношения между операторами, системами, природными условиями и общественными ожиданиями (Vaughan 1996). Перебои в электричестве или дорожные пробки заставляют многих из нас думать скорее о провисших проводах на линии электропередач или о плохих дорогах, а не о том, как наше общество сконструировано вокруг этих технологий и зависит от них. Что же до тех немногочисленных людей (из развитых стран), которые выбрали жизнь без электричества и автомобилей, — мы обычно считаем их чудаками, которые «вернулись назад в прошлое» или «живут в другую эпоху»; они как бы выбрали не быть модерными (Kraybill & Olshan 1994).
Аналогичным образом понятие технической аварии кодирует инфраструктуру как «оборудование» (Perrow 1984). Но большую часть этих сбоев можно предугадать и предотвратить на этапе производства и/или техобслуживания, что в свою очередь требует хорошо организованных социальных обязательств. (La Porte 1991; La Porte & Consolini 1991; Rochlin 1997; Sagan 1993). Удивительно низкое число несчастных случаев в секторе коммерческого воздушного транспорта, к примеру, отражает в равной степени успешную работу надзорных организаций, правового аппарата, общественную осведомлённость об авариях и качество изготовления самолётов (La Porte 1988). Тем не менее, для большинства пассажиров социальная составляющая безопасного авиаперелёта более ощутима, чем самолёты, в которых они летают; люди гораздо сильнее обеспокоены состоянием самолёта, чем персоналом центра управления полётами, FAA (Federal Aviation Agency, Федеральное авиационное агентство (США), и контролем воздушного трафика. Значит, пока инфраструктуры работают в качестве бесшовной спайки между «оборудованием», внутренней социальной организацией и более широкими социальными структурами, наше обыденное восприятие инфраструктур создаёт «чёрный ящик», который предполагает риторическое разделение общества и технологий в «нововременной установке» (Latour 1999).
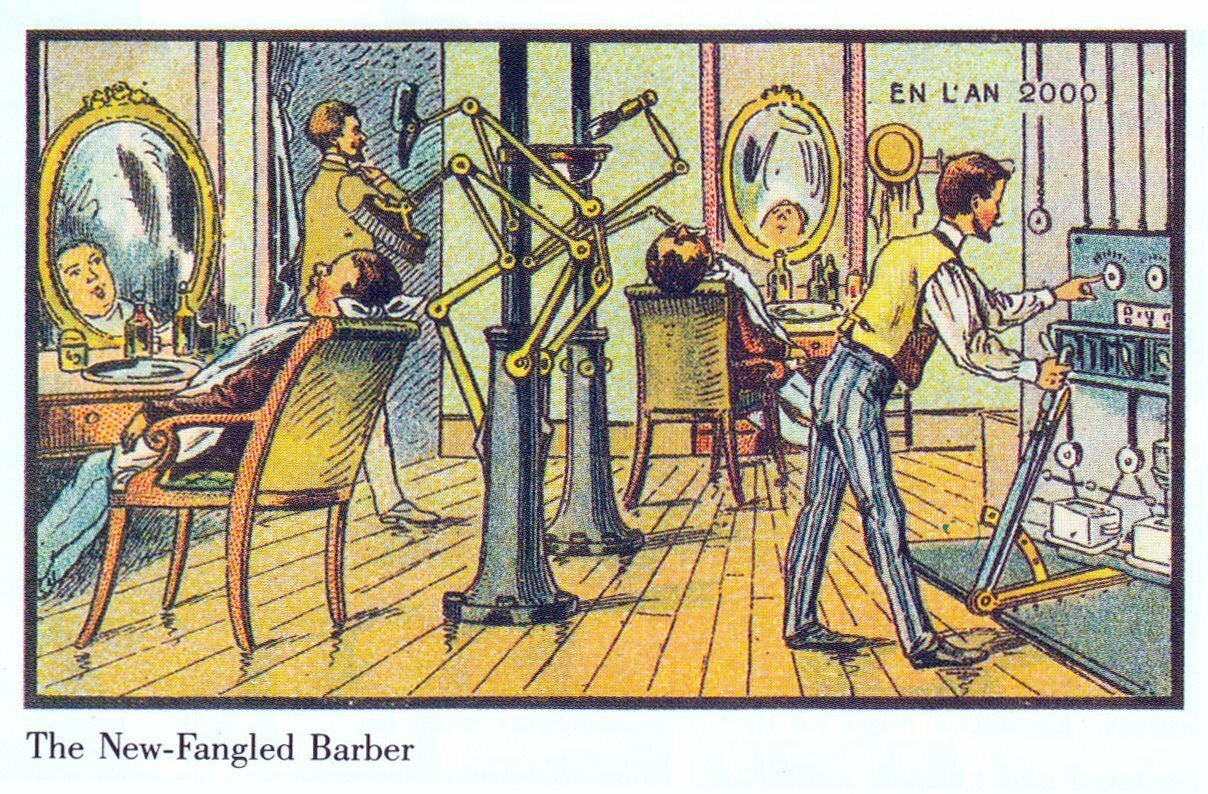
Инфраструктура и/как модерность
Таким образом, инфраструктура оказывается невидимым фоном, субстратом, поддержкой или технокультурной/природной средой модерности. Поэтому постановка вопроса об инфраструктуре кажется мне более правильной, чем весьма плохо сформулированный «вопрос о технике» Хайдеггера, которую он, как и многие другие, в основном понимал как «артефакт» (Heidegger 1977). Перефразируя Лэнгдона Виннера, инфраструктуры работают как законы (Winner 1986). Они создают и возможности, и ограничения. Они продвигают одни интересы за счёт других. Жить внутри множественных взаимосвязанных инфраструктур модерных обществ — значит иметь представление о месте в гигантских системах, которые одновременно ограничивают и дают возможности. Дорожная инфраструктура, например, позволяет нам передвигаться на высокой скорости, но также она определяет, куда можно ехать. Только немногие из модерных людей совершают долгие пешие путешествия к местам, где нет дорог. Если они и делают так, то в целях отдыха («побыть на природе»). Электроэнергия, телефоны, телевидение и прочие базовые инфраструктуры предоставляют множество услуг, но в то же время ловят своих подписчиков в сети корпоративной бюрократии, правительственного регулирования и шквала рекламы. Контроль, регулярность, порядок, система, технокультура как наша природа — всё это не только является фундаментальной составляющей Weltanschauung (мировоззрения) модернизма, идеологией, эстетикой и методом разработки. Я считаю, что все эти элементы лежат в основе модерности как проживаемой реальности.
Это сочетание системных общественных возможностей, имеющих технологическую основу, и законообразных ограничений подводит меня к первому ответу на вопросы, которые побудили написать эту книгу:
Строительство инфраструктур стало утверждением модерного состояния почти в любом из возможных смыслов. Одновременно с этим, идеологии и дискурсы модерности помогли определить цели, задачи и характеристики этих инфраструктур. Другими словами, на примере инфраструктур можно с исключительной ясностью показать со-конструирование технологий и модерности.
Масштаб как метод
В оставшейся части статьи я хочу представить метод исследования инфраструктур, который может помочь прояснить их связи с модерностью. В то же время, этот метод привлекает внимание к трудностям, противоречиям и ложным направлениям в этих концептах; в дальнейшем это поможет нам распутать их сложность, усомниться в их применимости, и, возможно, приведёт к изменению формулировки самого вопроса. Этот метод предполагает рассмотрение инфраструктур одновременно на нескольких масштабах силы, времени и социальной организации.
Идея метода вдохновлена идеями Томаса Миса о важности масштаба в истории технологий (Misa 1988; Misa 1994). У него также есть что-то общее с методом «инфраструктурной инверсии» Боукера и Стар, который направляет непосредственное внимание к обычно невидимым «грунтовым» слоям инфраструктуры, уровням базовых стандартов, схем классификации и материальным основаниям (Bowker & Star 1999) [5]. В оставшейся части текста я попробую применить этот подход к некоторым примерам из моей области — исследованиям информационной инфраструктуры (information infrastructure studies).
Сила
Я начну с рассмотрения масштабов силы — от силы человеческого тела (самый нижний уровень) до силы геофизической.
На протяжении большей части человеческой истории системы производства и транспортировки зависели в первую очередь от энергии людей и животных. Многие из модерных инфраструктур, включая транспортные системы и электроэнергетику, создают то, что для человека кажется усилением сил природы до той степени, которая недостижима для людей и животных. Понятие «модерного» общества — практически синоним общества, в котором доступно такое усиление. Поэтому (некоторые) инфраструктуры можно назвать усилителями силы, а модерное состояние — хайдеггеровской подручностью этих усиленных сил. Ощущение больших возможностей, которое мы получаем от этого, действительно велико.
Многие энергетические инфраструктуры соответственно находятся на среднем уровне силы — между силой человеческого тела и геофизической силой. Они создают надёжные, невидимые, социально полезные способы поддержания и контроля энергии. Доиндустриальные инфраструктуры зачастую прямо зависели от использования сил природы, таких как ветер или вода, которые тоже относятся к этому среднему уровню. Однако обычно упускается, что многие модерные энергетические инфраструктуры также полагаются, по крайней мере частично, на силы природы. Использование дамб на гидроэлектростанциях и потоков воздуха в воздушном транспорте — вот два из многих возможных примеров. Это довольно-таки очевидно.
Тем не менее, другой, более высокий масштаб силы обычно игнорируется при обсуждении инфраструктуры. Голландцы (к примеру) очень, даже слишком хорошо понимают, что инфраструктуры работают исключительно в пределах определённого диапазона природного разнообразия. Система плотин и насосных станций, которые сдерживают океан, чтобы он не затопил большую часть Нидерландов, время от времени не выдерживает напора воды. Подобным же образом жители пойменных территорий по всему земному шару регулярно находят свои дома разрушенными лишь затем, чтобы возвести их заново. Землетрясения, торнадо, глобальные изменения климата и другие природные катастрофы представляют уровни сил, решительно превышающие тот уровень, с учётом которого спроектирована или может быть спроектирована значительная часть инфраструктур.
По крайней мере в Соединенных Штатах эти происшествия известны как «стихийные бедствия». Одно из социальных последствий этих событий — наше внимание оказывается привлечено к инфраструктуре внезапно и мучительно. Ураган Флойд опустошил Северную Каролину и другие штаты восточного побережья в сентябре 1999-го года. Статьи, которые рассказывали о его последствиях, часто делали акцент на страданиях, муках и даже на смертях, последовавших за перебоями с электро- и водоснабжением. Летом 1999 года, когда нужда в кондиционерах повысилась в связи с «аномальной» жарой, вина за многочисленные смерти была возложена на повреждения электросетей. Телефонные книги в Калифорнии предупреждают местных жителей о том, что необходимо хранить недельные запасы воды, еды и топлива для приготовления пищи на случай отключения электроэнергии, водоснабжения и/или газопровода из-за землетрясения. Серьёзные разрушения, вызванные недавними землетрясениями в Турции и Индии, унесли много тысяч жизней и привели к тому, что строительные нормативы стали важным политико-правовым стандартом для инфраструктуры. Список примеров можно продолжать до бесконечности.
В развитом мире подавляющее большинство травм и смертей, связанных со «стихийными бедствиями», вызваны, как кажется, не самим природным явлением, а его косвенным воздействием на инфраструктуру. К примеру, повреждения дорог, мостов, рельс, туннелей и т. д. приводят к автомобильным и железнодорожным происшествиям, а муниципальное водоснабжение, загрязнённое примешавшимися с паводком водами, или аварии в канализации вызывают болезни. Потоп возможен в равной степени как в связи с прорывом дамб и плотин и по причине засорения водостока, так и в связи с затяжным ливнем. Эдвард Теннер называет это «силами, которые мстят» технологиям (Tenner 1996). Последствия подобных бедствий могут быть усилены из-за взаимной зависимости между различными инфраструктурами. Так, природные катаклизмы могут вывести из строя одну инфраструктуру — например, аварийные службы — посредством повреждения других инфраструктур, в частности, телефонной связи или дорожной инфраструктуры. Мы и впрямь так сильно зависим от этих инфраструктур, что категория «стихийного бедствия» в первую очередь отсылает к описанному отношению между инфраструктурами и природными происшествиями.
Модерные общества всё чаще сталкиваются с забытыми отношениями между выстроенными инфраструктурами и их предполагаемой основой в виде природных сил и структур. Долгое время считавшийся статичным, этот фон теперь рассматривают не только как естественный, но и как подверженный изменениям в результате человеческой деятельности. Глобальное изменение климата, к примеру, само изменяет те условия, в которых функционируют инфраструктуры, начиная от условий сельскохозяйственного производства и заканчивая более частыми суровыми погодными явлениями. Страховая индустрия является фундаментальным финансовым элементом практически всех модерных инфраструктур. В силу присущей ей дальновидности и приверженности долгосрочной перспективе она стала включать климатические изменения в анализ уязвимости от «природных» бедствий, в особенности на низких прибрежных территориях. В качестве политического вопроса изменения климата отражают осознание того, что геофизические уровни силы должны быть включены в любой полноценный анализ инфраструктуры. Понимание этого — фундаментальная и фундаментально новая особенность инфраструктуры в эпоху модерна.
Время
Другое многоуровневое измерение — это время, которое я буду рассматривать в диапазоне от человеческого (часы, дни, годы) к историческому (десятилетия, столетия) и затем к геофизическому (тысячелетия и дольше).
Особенный характер человеческого времени — одна из причин, по которой инфраструктуры невидимы между моментами сбоев. Масштаб человеческого времени задан нашими природными (животными) характеристиками, среди которых можно выделить: горизонт смерти, значимость крайностей, затухание и искажение памяти, медленный и прерывистый процесс обучения, а также наше беспокойное внимание, сосредоточенное на единственном объекте в каждый отдельный момент времени [6]. За вычетом редких случаев изобретения или серьезных трансформаций, инфраструктуры меняются слишком медленно, чтобы большинство из нас могли это заметить; величавая поступь изменений инфраструктуры — элемент их убедительной стабильности. Они существуют главным образом как бы в историческом времени.
Отчасти поэтому инфраструктуры обладают способностью формировать человеческое время, задавая условия, позволяющие нам воспринимать структуру времени и его течение. Телеграф известным образом создал ощущение одновременности на огромных расстояниях, предвосхитив «глобальную деревню» Маклюэна, а электроэнергия продлила рабочий день до ночи [7]. Транспортная инфраструктура определяет отношения между временем и пространством, меняя человеческое восприятие обоих этих элементов. Конечно, общества создают инфраструктуры, но благодаря своей временной протяжённости инфраструктуры становятся более важной силой в структурировании общества. Это представление схоже с концептом «структурации» у Гидденса, которому он однажды дал такое определение: «как может быть такое, что социальная деятельность „протянута" сквозь широкие пространственно-временные отрезки?» (Giddens 1984, XXI).
Однако на геофизическом или даже долгосрочном, историческом временном масштабе инфраструктуры предстают хрупкими и эфемерными. Римские акведуки до сих пор стоят, но большинство из них уже много столетий не отводят воду. Мировая телеграфная сеть, главная опора всемирной коммуникации вплоть до 1960-х, была в основном вытеснена телефоном. В долгосрочной перспективе кажется, что время подчиняет инфраструктуры себе, а не наоборот. На масштабе геофизического времени катаклизмы, более значительные, чем испытывал кто-либо из ныне живущих, случались с монотонной регулярностью. В то же время такие «мягкие» силы, как протечка воды, капля за каплей превышают возможности технологического контроля (это, к примеру, имеет значение для всё ещё нерешённой проблемы долгосрочного хранения ядерных отходов).
Поэтому — возвращаясь к моему наблюдению в предыдущем разделе — неравномерность «природных катаклизмов» можно рассматривать (на уровне человеческих силы и времени) как один из механизмов конструирования специфики «природы» модерна — опасной, непредсказуемой и/или доставляющей неудобства. Таким образом происходит обособление природы от инфраструктуры, а технология оказывается способом контроля. Тем не менее, на уровне геофизического времени эта неравномерность становится фундаментальным и предсказуемым свойством природы, и таким образом происходит деконструирование упомянутого разделения через демонстрацию постоянного наложения инфраструктуры и природы.
Иными словами, мы могли бы сказать, что инфраструктуры терпят неудачу именно потому, что их разработчики рассматривают природу как нечто упорядоченное, надёжное и отличимое от общества и технологий — такие представления на самом деле являются ключевой характеристикой модерной жизни-в-инфраструктуре. В то же время, природа упорно отказывается соглашаться с этой нововременной установкой. Вместо этого мы можем сказать, что на масштабе длительного исторического и геофизического времени сбои — природное свойство инфраструктур, или даже свойство природы как инфраструктуры (от которой принципиально зависят все инфраструктуры, созданные человеком). Таким образом модерность можно изобразить как состояние системной уязвимости.
Осознание этой уязвимости глубоко укоренено в модерную мысль. Неслучайно, что модерный страх конца света происходит из двух источников: ядерная война с одной стороны и экологическая катастрофа — с другой. Первый из этих источников представляет собой финальное усиление научной/технологической силы.
Широко распространённый (и вполне оправданный) страх ядерной войны, которая может начаться из-за сбоя, нормализовал идею сбоя даже для инфраструктуры, построенной с использованием действительно неограниченных ресурсов (Borning 1987, Bracken 1983). Этот страх достиг своего пика в эпоху Холодной войны — крайне модерного конфликта двух гигантских систем, военные инфраструктуры которых пронизывали всё общество. В более позднее время страх глобального потепления соединяет промышленные инфраструктуры и углеродный баланс в рамках целой планеты. Это снова возвращает нас к ошибочности нововременной установки; технические системы потребляют углерод, но одновременно они полагаются на то, что природа переработает его, выведет из атмосферы и вернёт назад в почву (а в первую очередь — на то, что природа вообще его произведёт). Экономика ископаемого топлива как глобальная инфраструктура — часть этого более широкого процесса. Потому природа — это, в некотором смысле, предельная инфраструктура. Экологическая осознанность, особенно идеи управления целой планетой, определённо признаёт эту взаимосвязь. Мы можем представить «Общество риска» Бека (Beck 1992) как описание появляющейся пост-нововременной установки, которая функционирует, задавая соразмерность природного и социотехнического через обращение к вездесущей категории риска.
Социальная организация
Позвольте мне теперь, вслед за силой и временем, ввести третье многоуровневое измерение: социальную организацию. В отличие от относительно легитимного применения к измерениям времени и силы, понятие «масштаба» применимо к социальной организации только эвристически; размер организации — одна из многих переменных, которые необязательно связаны между собой и обладают относительной важностью. Но всё же для моих целей оно работает — в качество грубого, интуитивного путеводителя. Масштаб социальной организации варьируется от отдельных семей и рабочих коллективов до правительств, государственных экономик и транснациональных корпораций. Он многократно и решительно пересекается такими категориями как гендер, этничности и другими понятиями, которые конституируют идентичность. Здесь я начну представлять эмпирические исследования (что является целью данного сборника).
Как я уже отмечал, инфраструктуры существуют на уровне исторического времени. По моему определению, они существуют также и на больших социальных и экономических уровнях. Большая часть из них создаётся и поддерживается очень крупными организациями (к примеру, телефонные или энергетические компании, государственные или международные регулирующие инстанции). Они могут связывать миллионы или даже миллиарды частных и корпоративных пользователей, которые могут использовать их ежедневно в течение всей жизни (или даже ещё больше). Но с точки зрения пользователей инфраструктуры также существуют на меньших временных и социальных уровнях. В некотором смысле каждое домохозяйство представляет собой индивидуально созданную инфраструктуру, настроенную на нужды семьи или небольшой группы, выстроенную, главным образом, путём отбора коммерчески приемлемых компонентов, связь между которыми обеспечивается с помощью стандартных интерфейсов (например, розетки в стенах, телефонные гнёзда, и телевизионные кабели). Небольшие и эфемерные социальные группы, скажем, состоящие из участников списков email-рассылок или небольшой телефонной книги, могут в значительной степени или полностью функционировать посредством крупномасштабных инфраструктур.
Таким образом, инфраструктура оказывается невидимым фоном, субстратом, поддержкой или технокультурной/природной средой модерности. Поэтому постановка вопроса об инфраструктуре кажется мне более правильной, чем весьма плохо сформулированный «вопрос о технике» Хайдеггера, которую он, как и многие другие, в основном понимал как «артефакт» (Heidegger 1977). Перефразируя Лэнгдона Виннера, инфраструктуры работают как законы (Winner 1986). Они создают и возможности, и ограничения. Они продвигают одни интересы за счёт других. Жить внутри множественных взаимосвязанных инфраструктур модерных обществ — значит иметь представление о месте в гигантских системах, которые одновременно ограничивают и дают возможности. Дорожная инфраструктура, например, позволяет нам передвигаться на высокой скорости, но также она определяет, куда можно ехать. Только немногие из модерных людей совершают долгие пешие путешествия к местам, где нет дорог. Если они и делают так, то в целях отдыха («побыть на природе»). Электроэнергия, телефоны, телевидение и прочие базовые инфраструктуры предоставляют множество услуг, но в то же время ловят своих подписчиков в сети корпоративной бюрократии, правительственного регулирования и шквала рекламы. Контроль, регулярность, порядок, система, технокультура как наша природа — всё это не только является фундаментальной составляющей Weltanschauung (мировоззрения) модернизма, идеологией, эстетикой и методом разработки. Я считаю, что все эти элементы лежат в основе модерности как проживаемой реальности.
Это сочетание системных общественных возможностей, имеющих технологическую основу, и законообразных ограничений подводит меня к первому ответу на вопросы, которые побудили написать эту книгу:
Строительство инфраструктур стало утверждением модерного состояния почти в любом из возможных смыслов. Одновременно с этим, идеологии и дискурсы модерности помогли определить цели, задачи и характеристики этих инфраструктур. Другими словами, на примере инфраструктур можно с исключительной ясностью показать со-конструирование технологий и модерности.
Масштаб как метод
В оставшейся части статьи я хочу представить метод исследования инфраструктур, который может помочь прояснить их связи с модерностью. В то же время, этот метод привлекает внимание к трудностям, противоречиям и ложным направлениям в этих концептах; в дальнейшем это поможет нам распутать их сложность, усомниться в их применимости, и, возможно, приведёт к изменению формулировки самого вопроса. Этот метод предполагает рассмотрение инфраструктур одновременно на нескольких масштабах силы, времени и социальной организации.
Идея метода вдохновлена идеями Томаса Миса о важности масштаба в истории технологий (Misa 1988; Misa 1994). У него также есть что-то общее с методом «инфраструктурной инверсии» Боукера и Стар, который направляет непосредственное внимание к обычно невидимым «грунтовым» слоям инфраструктуры, уровням базовых стандартов, схем классификации и материальным основаниям (Bowker & Star 1999) [5]. В оставшейся части текста я попробую применить этот подход к некоторым примерам из моей области — исследованиям информационной инфраструктуры (information infrastructure studies).
Сила
Я начну с рассмотрения масштабов силы — от силы человеческого тела (самый нижний уровень) до силы геофизической.
На протяжении большей части человеческой истории системы производства и транспортировки зависели в первую очередь от энергии людей и животных. Многие из модерных инфраструктур, включая транспортные системы и электроэнергетику, создают то, что для человека кажется усилением сил природы до той степени, которая недостижима для людей и животных. Понятие «модерного» общества — практически синоним общества, в котором доступно такое усиление. Поэтому (некоторые) инфраструктуры можно назвать усилителями силы, а модерное состояние — хайдеггеровской подручностью этих усиленных сил. Ощущение больших возможностей, которое мы получаем от этого, действительно велико.
Многие энергетические инфраструктуры соответственно находятся на среднем уровне силы — между силой человеческого тела и геофизической силой. Они создают надёжные, невидимые, социально полезные способы поддержания и контроля энергии. Доиндустриальные инфраструктуры зачастую прямо зависели от использования сил природы, таких как ветер или вода, которые тоже относятся к этому среднему уровню. Однако обычно упускается, что многие модерные энергетические инфраструктуры также полагаются, по крайней мере частично, на силы природы. Использование дамб на гидроэлектростанциях и потоков воздуха в воздушном транспорте — вот два из многих возможных примеров. Это довольно-таки очевидно.
Тем не менее, другой, более высокий масштаб силы обычно игнорируется при обсуждении инфраструктуры. Голландцы (к примеру) очень, даже слишком хорошо понимают, что инфраструктуры работают исключительно в пределах определённого диапазона природного разнообразия. Система плотин и насосных станций, которые сдерживают океан, чтобы он не затопил большую часть Нидерландов, время от времени не выдерживает напора воды. Подобным же образом жители пойменных территорий по всему земному шару регулярно находят свои дома разрушенными лишь затем, чтобы возвести их заново. Землетрясения, торнадо, глобальные изменения климата и другие природные катастрофы представляют уровни сил, решительно превышающие тот уровень, с учётом которого спроектирована или может быть спроектирована значительная часть инфраструктур.
По крайней мере в Соединенных Штатах эти происшествия известны как «стихийные бедствия». Одно из социальных последствий этих событий — наше внимание оказывается привлечено к инфраструктуре внезапно и мучительно. Ураган Флойд опустошил Северную Каролину и другие штаты восточного побережья в сентябре 1999-го года. Статьи, которые рассказывали о его последствиях, часто делали акцент на страданиях, муках и даже на смертях, последовавших за перебоями с электро- и водоснабжением. Летом 1999 года, когда нужда в кондиционерах повысилась в связи с «аномальной» жарой, вина за многочисленные смерти была возложена на повреждения электросетей. Телефонные книги в Калифорнии предупреждают местных жителей о том, что необходимо хранить недельные запасы воды, еды и топлива для приготовления пищи на случай отключения электроэнергии, водоснабжения и/или газопровода из-за землетрясения. Серьёзные разрушения, вызванные недавними землетрясениями в Турции и Индии, унесли много тысяч жизней и привели к тому, что строительные нормативы стали важным политико-правовым стандартом для инфраструктуры. Список примеров можно продолжать до бесконечности.
В развитом мире подавляющее большинство травм и смертей, связанных со «стихийными бедствиями», вызваны, как кажется, не самим природным явлением, а его косвенным воздействием на инфраструктуру. К примеру, повреждения дорог, мостов, рельс, туннелей и т. д. приводят к автомобильным и железнодорожным происшествиям, а муниципальное водоснабжение, загрязнённое примешавшимися с паводком водами, или аварии в канализации вызывают болезни. Потоп возможен в равной степени как в связи с прорывом дамб и плотин и по причине засорения водостока, так и в связи с затяжным ливнем. Эдвард Теннер называет это «силами, которые мстят» технологиям (Tenner 1996). Последствия подобных бедствий могут быть усилены из-за взаимной зависимости между различными инфраструктурами. Так, природные катаклизмы могут вывести из строя одну инфраструктуру — например, аварийные службы — посредством повреждения других инфраструктур, в частности, телефонной связи или дорожной инфраструктуры. Мы и впрямь так сильно зависим от этих инфраструктур, что категория «стихийного бедствия» в первую очередь отсылает к описанному отношению между инфраструктурами и природными происшествиями.
Модерные общества всё чаще сталкиваются с забытыми отношениями между выстроенными инфраструктурами и их предполагаемой основой в виде природных сил и структур. Долгое время считавшийся статичным, этот фон теперь рассматривают не только как естественный, но и как подверженный изменениям в результате человеческой деятельности. Глобальное изменение климата, к примеру, само изменяет те условия, в которых функционируют инфраструктуры, начиная от условий сельскохозяйственного производства и заканчивая более частыми суровыми погодными явлениями. Страховая индустрия является фундаментальным финансовым элементом практически всех модерных инфраструктур. В силу присущей ей дальновидности и приверженности долгосрочной перспективе она стала включать климатические изменения в анализ уязвимости от «природных» бедствий, в особенности на низких прибрежных территориях. В качестве политического вопроса изменения климата отражают осознание того, что геофизические уровни силы должны быть включены в любой полноценный анализ инфраструктуры. Понимание этого — фундаментальная и фундаментально новая особенность инфраструктуры в эпоху модерна.
Время
Другое многоуровневое измерение — это время, которое я буду рассматривать в диапазоне от человеческого (часы, дни, годы) к историческому (десятилетия, столетия) и затем к геофизическому (тысячелетия и дольше).
Особенный характер человеческого времени — одна из причин, по которой инфраструктуры невидимы между моментами сбоев. Масштаб человеческого времени задан нашими природными (животными) характеристиками, среди которых можно выделить: горизонт смерти, значимость крайностей, затухание и искажение памяти, медленный и прерывистый процесс обучения, а также наше беспокойное внимание, сосредоточенное на единственном объекте в каждый отдельный момент времени [6]. За вычетом редких случаев изобретения или серьезных трансформаций, инфраструктуры меняются слишком медленно, чтобы большинство из нас могли это заметить; величавая поступь изменений инфраструктуры — элемент их убедительной стабильности. Они существуют главным образом как бы в историческом времени.
Отчасти поэтому инфраструктуры обладают способностью формировать человеческое время, задавая условия, позволяющие нам воспринимать структуру времени и его течение. Телеграф известным образом создал ощущение одновременности на огромных расстояниях, предвосхитив «глобальную деревню» Маклюэна, а электроэнергия продлила рабочий день до ночи [7]. Транспортная инфраструктура определяет отношения между временем и пространством, меняя человеческое восприятие обоих этих элементов. Конечно, общества создают инфраструктуры, но благодаря своей временной протяжённости инфраструктуры становятся более важной силой в структурировании общества. Это представление схоже с концептом «структурации» у Гидденса, которому он однажды дал такое определение: «как может быть такое, что социальная деятельность „протянута" сквозь широкие пространственно-временные отрезки?» (Giddens 1984, XXI).
Однако на геофизическом или даже долгосрочном, историческом временном масштабе инфраструктуры предстают хрупкими и эфемерными. Римские акведуки до сих пор стоят, но большинство из них уже много столетий не отводят воду. Мировая телеграфная сеть, главная опора всемирной коммуникации вплоть до 1960-х, была в основном вытеснена телефоном. В долгосрочной перспективе кажется, что время подчиняет инфраструктуры себе, а не наоборот. На масштабе геофизического времени катаклизмы, более значительные, чем испытывал кто-либо из ныне живущих, случались с монотонной регулярностью. В то же время такие «мягкие» силы, как протечка воды, капля за каплей превышают возможности технологического контроля (это, к примеру, имеет значение для всё ещё нерешённой проблемы долгосрочного хранения ядерных отходов).
Поэтому — возвращаясь к моему наблюдению в предыдущем разделе — неравномерность «природных катаклизмов» можно рассматривать (на уровне человеческих силы и времени) как один из механизмов конструирования специфики «природы» модерна — опасной, непредсказуемой и/или доставляющей неудобства. Таким образом происходит обособление природы от инфраструктуры, а технология оказывается способом контроля. Тем не менее, на уровне геофизического времени эта неравномерность становится фундаментальным и предсказуемым свойством природы, и таким образом происходит деконструирование упомянутого разделения через демонстрацию постоянного наложения инфраструктуры и природы.
Иными словами, мы могли бы сказать, что инфраструктуры терпят неудачу именно потому, что их разработчики рассматривают природу как нечто упорядоченное, надёжное и отличимое от общества и технологий — такие представления на самом деле являются ключевой характеристикой модерной жизни-в-инфраструктуре. В то же время, природа упорно отказывается соглашаться с этой нововременной установкой. Вместо этого мы можем сказать, что на масштабе длительного исторического и геофизического времени сбои — природное свойство инфраструктур, или даже свойство природы как инфраструктуры (от которой принципиально зависят все инфраструктуры, созданные человеком). Таким образом модерность можно изобразить как состояние системной уязвимости.
Осознание этой уязвимости глубоко укоренено в модерную мысль. Неслучайно, что модерный страх конца света происходит из двух источников: ядерная война с одной стороны и экологическая катастрофа — с другой. Первый из этих источников представляет собой финальное усиление научной/технологической силы.
Широко распространённый (и вполне оправданный) страх ядерной войны, которая может начаться из-за сбоя, нормализовал идею сбоя даже для инфраструктуры, построенной с использованием действительно неограниченных ресурсов (Borning 1987, Bracken 1983). Этот страх достиг своего пика в эпоху Холодной войны — крайне модерного конфликта двух гигантских систем, военные инфраструктуры которых пронизывали всё общество. В более позднее время страх глобального потепления соединяет промышленные инфраструктуры и углеродный баланс в рамках целой планеты. Это снова возвращает нас к ошибочности нововременной установки; технические системы потребляют углерод, но одновременно они полагаются на то, что природа переработает его, выведет из атмосферы и вернёт назад в почву (а в первую очередь — на то, что природа вообще его произведёт). Экономика ископаемого топлива как глобальная инфраструктура — часть этого более широкого процесса. Потому природа — это, в некотором смысле, предельная инфраструктура. Экологическая осознанность, особенно идеи управления целой планетой, определённо признаёт эту взаимосвязь. Мы можем представить «Общество риска» Бека (Beck 1992) как описание появляющейся пост-нововременной установки, которая функционирует, задавая соразмерность природного и социотехнического через обращение к вездесущей категории риска.
Социальная организация
Позвольте мне теперь, вслед за силой и временем, ввести третье многоуровневое измерение: социальную организацию. В отличие от относительно легитимного применения к измерениям времени и силы, понятие «масштаба» применимо к социальной организации только эвристически; размер организации — одна из многих переменных, которые необязательно связаны между собой и обладают относительной важностью. Но всё же для моих целей оно работает — в качество грубого, интуитивного путеводителя. Масштаб социальной организации варьируется от отдельных семей и рабочих коллективов до правительств, государственных экономик и транснациональных корпораций. Он многократно и решительно пересекается такими категориями как гендер, этничности и другими понятиями, которые конституируют идентичность. Здесь я начну представлять эмпирические исследования (что является целью данного сборника).
Как я уже отмечал, инфраструктуры существуют на уровне исторического времени. По моему определению, они существуют также и на больших социальных и экономических уровнях. Большая часть из них создаётся и поддерживается очень крупными организациями (к примеру, телефонные или энергетические компании, государственные или международные регулирующие инстанции). Они могут связывать миллионы или даже миллиарды частных и корпоративных пользователей, которые могут использовать их ежедневно в течение всей жизни (или даже ещё больше). Но с точки зрения пользователей инфраструктуры также существуют на меньших временных и социальных уровнях. В некотором смысле каждое домохозяйство представляет собой индивидуально созданную инфраструктуру, настроенную на нужды семьи или небольшой группы, выстроенную, главным образом, путём отбора коммерчески приемлемых компонентов, связь между которыми обеспечивается с помощью стандартных интерфейсов (например, розетки в стенах, телефонные гнёзда, и телевизионные кабели). Небольшие и эфемерные социальные группы, скажем, состоящие из участников списков email-рассылок или небольшой телефонной книги, могут в значительной степени или полностью функционировать посредством крупномасштабных инфраструктур.
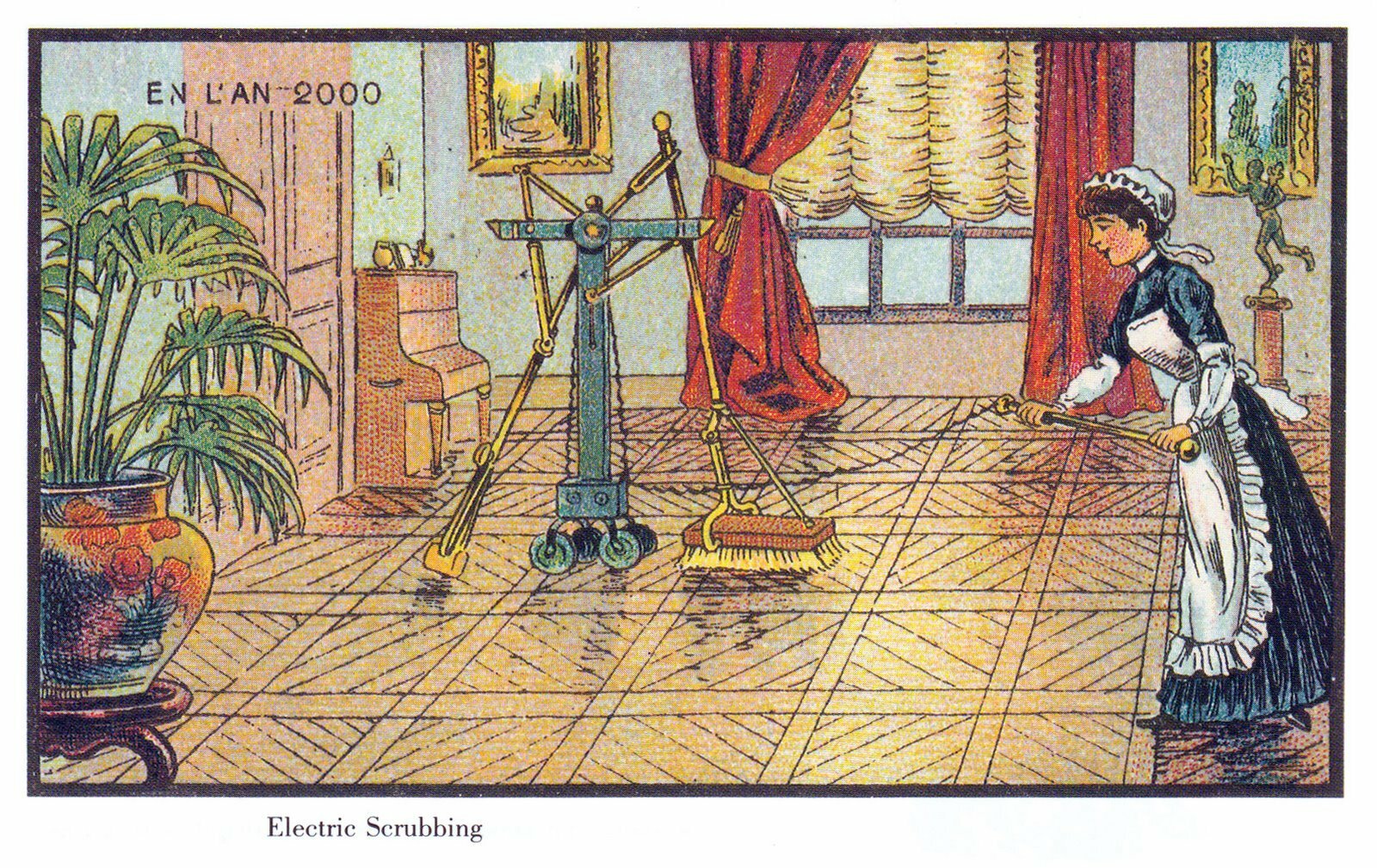
Масштабы социальной организации требуют иной терминологии, чем та, которой я пользовался для описания масштабов силы и времени, так что я позаимствую полезные категории Миса:
· Микро-масштаб: индивиды, малые группы; как правило — краткий жизненный цикл [8]
· Мезо-масштаб: институции, в т. ч. корпорации и стандартизирующие инстанции, в основном существуют несколько десятилетий или дольше
· Макро-масштаб: большие структуры и системы, такие как политэкономические системы и некоторые правительства, существуют многие десятилетия или века
Теперь, как и прежде, я настаиваю на том, что описание инфраструктур на микро-масштабе даёт одно представление об их роли в модерности, тогда как макро-масштаб приводит к совершенно другому представлению. Каждый масштаб рассказывает нам что-то о состоянии современности, но напряжённость между разноуровневыми подходами в то же время ставит под вопрос саму категорию «модерности». Помимо прочего, многоуровневый подход позволяет увидеть серьёзную пролему с социально-конструктивистским подходом в исследованиях науки и техники.
· Микро-масштаб: индивиды, малые группы; как правило — краткий жизненный цикл [8]
· Мезо-масштаб: институции, в т. ч. корпорации и стандартизирующие инстанции, в основном существуют несколько десятилетий или дольше
· Макро-масштаб: большие структуры и системы, такие как политэкономические системы и некоторые правительства, существуют многие десятилетия или века
Теперь, как и прежде, я настаиваю на том, что описание инфраструктур на микро-масштабе даёт одно представление об их роли в модерности, тогда как макро-масштаб приводит к совершенно другому представлению. Каждый масштаб рассказывает нам что-то о состоянии современности, но напряжённость между разноуровневыми подходами в то же время ставит под вопрос саму категорию «модерности». Помимо прочего, многоуровневый подход позволяет увидеть серьёзную пролему с социально-конструктивистским подходом в исследованиях науки и техники.
Мезо-масштабы: большие технологические системы
Теперь обратимся к мезо-масштабу. Есть немало эмпирических исследований, затрагивающих исторический и социологический аспекты отдельных инфраструктур, включая автомобильные дороги (Goddard 1994; Lewis 1997; Seely 1987), телеграф (Blondheim 1994; Standage 1998), радио (Douglas 1987), управление воздушным транспортом (La Porte 1988; La Porte & Consolini 1991) и, с недавнего времени, интернет (Abbate 1999; Hauben & Hauben 1997; Segaller 1998). Наиболее успешными оказались исследования железных дорог (Chandler 1977; Yates 1989), электросетей (Hughes 1983) и телефонных систем (Fischer 1992) [9].
Однако всего несколько таких исследований рассматривали вопросы формирования и развития инфраструктур как таковых (per se). Наиболее последовательные попытки их изучения начались с середины 1980-х силами слабо организованной группы исследователей больших технологических систем (large technical systems), состоящей из европейских и американских историков и социологов (La Porte 1991; Mayntz & Hughes 1988; Summerton 1994). Томас Хьюз, предводитель американских историков технологии и заметный участник группы, задал направление дискуссии, утверждая, что большие технологические системы в масштабе исторического времени склонны следовать чёткой траектории развития. Вначале неорганизованное, разрозненное множество изобретателей и энтузиастов создаёт новые технологические возможности. В какой-то момент «строители систем» (system builders) видят способ организовать эти возможности в целостную систему со значимой функцией, так же как Эдисон продумал систему освещения от генератора через кабель и к электрической лампочке, или как Морзе выдумал (imagined) из проводов, телеграфных ключей и шифра Трансатлантическую сеть. Проект системы должен быть одновременно социальным и техническим, потому что коммерческий успех зависит не только от понимания того, как система может быть построена. Важно и то, в чем её польза и привлекательность для потребителей и клиентов (которые уже решают заявленную проблему каким-то способом). В моей терминологии строители систем придумывают (imagine) инфраструктуру.
После стадии распространения, когда появляются вариации первоначальной концепции, сети начинают приобретать «технологический импульс», инерцию («technological momentum»), которая имеет «массу, скорость и направление» (Hughes 1987). На этом этапе какая-то конкретная версия системы приобретает критическую массу пользователей. Коллективный финансовый и умственный вклад последних постепенно тормозит радикальные изменения основных свойств системы.
Здесь появляются стандарты, ограничивающие возможные конфигурации системы. Это решающий этап, в ходе которого хаотическая конкуренция версий системы организуется вокруг относительно стабильной концепции системы. В конце концов, соревнующиеся сети должны подчиниться этим стандартам, найти ad hoc способы адаптировать своё не-стандартное оборудование или попросту исчезнуть. Стандарты снижают как цены для потребителя, так и риски для производителя, усиливая тем самым импульс доминирующей системы. На этапе консолидации все, кто оставался независимым, подстраиваются под появившиеся стандарты. Формируется единая инфраструктура, иногда в форме общественной или квази-общественной монополии («общественной пользы»). С недавнего времени некоторые крупные инфраструктуры США и Европы (в особенности Великобритании) вступили в другую фазу: дерегулирование, когдагосударство ослабляет или вовсе прекращает защиту монополий, воссоздавая свободный рынок (с ограничениями) таких инфраструктурных сервисов, как телефония или электроэнергия.
Хьюз также показал, что национальные инфраструктуры разработаны в соответствии с различными «технологическими стилями». Сравнивая историю электроэнергетических систем США, Германии и Великобритании, он объяснил их техническое разнообразие влиянием исторических и политико-экономических особенностей стран, а иногда и менее осязаемых причин, таких как стремление утвердить национальную идентичность посредством уникального технологического стиля (Hecht 1998).
Группа исследователей больших технологических систем убедительно показала, что эти и подобные модели можно найти в истории многих крупных инфраструктур. Вывод, который можно сделать из результатов этих исследований, двоякий. Во-первых, отдельные инфраструктуры имеют жизненный цикл, модель развития, видимую на историческом временном масштабе. Во-вторых, инфраструктуры состоят не из одного только оборудования, но и из правовых, корпоративных и политико-экономических элементов. К примеру, федеральные земельные дотации, регулирование со стороны Комиссии по торговле между штатами (ICC, Interstate Commerce Commission — прим. пер.), решения Верховного Суда и защита от спекуляций на фондовой бирже имели такое же отношение к развитию американской национальной железнодорожной системы, как и усовершенствование паровых двигателей, железнодорожных технологий и сигнальных систем. «Технология» не просто испытывает влияние общества; она социальна вдоль и поперёк. Для понимания того, как она формируется, необходимо выбрать подходящие временной и социальный масштабы анализа. Хотя отдельные, индивидуальные строители систем, такие как Эдисон, сэр Томас Уотсон-старший или Билл Гейтс очень важны для истории инфраструктур, главный вывод всех вдохновлённых Хьюзом рассказов — большие социальные институты играют решающую роль.
Большинство моделей, обнаруженных исследователями больших технологических систем, касаются непосредственно развития инфраструктур. Но эти два концепта не вполне идентичны. Концепт «больших технологических систем» сосредоточен на развитии вокруг технологического ядра. Инфраструктуры, напротив, являются не просто большими системами, но социотехническими структурами. Некоторые инфраструктуры, такие как школьная или конституционная системы, мало зависят от технологий (хоть я и не буду останавливаться здесь на этой форме инфраструктур). Кроме того, некоторые виды инфраструктур, в особенности это касается цифровых информационных инфраструктур, можно расширять, соединять и «переопределять» практически бесконечно, создавая сети мета-уровня, выходящие за рамки техноцентричной системы. Хорошим примером является современная «цифровая конвергенция», в рамках которой радио, телевидение, музыкальные записи, сотовая телефония и другие медиа объединяются в новую систему на базе интернета Всемирной Паутины. (Edwards 1998a; Edwards 1998b; Hanseth & Monteiro 1998). Очевидно, эти формирующиеся взаимосвязанные системы не работают по принципу кабельных и телефонных сетей. Понятие инфраструктуры в том смысле, в котором я его использую, даёт возможность увидеть протяжённость во времени, пространстве и технологических связях, выходящих за границы отдельных систем.
Такое описание развития инфраструктур превыше сомнений определяет их как модерный феномен. Строительство инфраструктур от регионального до мирового масштаба невозможно без крупных институций с продолжительным жизненным циклом, большой политической, экономической и социальной силой и (в случае с частным сектором) огромным состоянием. Отдельные люди и небольшие группы влияют на их курс, но только на ранних этапах, до того, как институции возьмут контроль в свои руки. Понимание этого обычно сочетается с широко распространённым взглядом на модерность как на подчинение отдельных людей и сообществ государству и корпоративной власти (Borgmann 1984; Borgmann 1992; Foucault 1977; Vig 1988; Winner 1986). Такие императивы действуют посредством обобщённого и прагматически неизбежного встраивания в формы жизни, предписанные инфраструктурами.
Теперь обратимся к мезо-масштабу. Есть немало эмпирических исследований, затрагивающих исторический и социологический аспекты отдельных инфраструктур, включая автомобильные дороги (Goddard 1994; Lewis 1997; Seely 1987), телеграф (Blondheim 1994; Standage 1998), радио (Douglas 1987), управление воздушным транспортом (La Porte 1988; La Porte & Consolini 1991) и, с недавнего времени, интернет (Abbate 1999; Hauben & Hauben 1997; Segaller 1998). Наиболее успешными оказались исследования железных дорог (Chandler 1977; Yates 1989), электросетей (Hughes 1983) и телефонных систем (Fischer 1992) [9].
Однако всего несколько таких исследований рассматривали вопросы формирования и развития инфраструктур как таковых (per se). Наиболее последовательные попытки их изучения начались с середины 1980-х силами слабо организованной группы исследователей больших технологических систем (large technical systems), состоящей из европейских и американских историков и социологов (La Porte 1991; Mayntz & Hughes 1988; Summerton 1994). Томас Хьюз, предводитель американских историков технологии и заметный участник группы, задал направление дискуссии, утверждая, что большие технологические системы в масштабе исторического времени склонны следовать чёткой траектории развития. Вначале неорганизованное, разрозненное множество изобретателей и энтузиастов создаёт новые технологические возможности. В какой-то момент «строители систем» (system builders) видят способ организовать эти возможности в целостную систему со значимой функцией, так же как Эдисон продумал систему освещения от генератора через кабель и к электрической лампочке, или как Морзе выдумал (imagined) из проводов, телеграфных ключей и шифра Трансатлантическую сеть. Проект системы должен быть одновременно социальным и техническим, потому что коммерческий успех зависит не только от понимания того, как система может быть построена. Важно и то, в чем её польза и привлекательность для потребителей и клиентов (которые уже решают заявленную проблему каким-то способом). В моей терминологии строители систем придумывают (imagine) инфраструктуру.
После стадии распространения, когда появляются вариации первоначальной концепции, сети начинают приобретать «технологический импульс», инерцию («technological momentum»), которая имеет «массу, скорость и направление» (Hughes 1987). На этом этапе какая-то конкретная версия системы приобретает критическую массу пользователей. Коллективный финансовый и умственный вклад последних постепенно тормозит радикальные изменения основных свойств системы.
Здесь появляются стандарты, ограничивающие возможные конфигурации системы. Это решающий этап, в ходе которого хаотическая конкуренция версий системы организуется вокруг относительно стабильной концепции системы. В конце концов, соревнующиеся сети должны подчиниться этим стандартам, найти ad hoc способы адаптировать своё не-стандартное оборудование или попросту исчезнуть. Стандарты снижают как цены для потребителя, так и риски для производителя, усиливая тем самым импульс доминирующей системы. На этапе консолидации все, кто оставался независимым, подстраиваются под появившиеся стандарты. Формируется единая инфраструктура, иногда в форме общественной или квази-общественной монополии («общественной пользы»). С недавнего времени некоторые крупные инфраструктуры США и Европы (в особенности Великобритании) вступили в другую фазу: дерегулирование, когдагосударство ослабляет или вовсе прекращает защиту монополий, воссоздавая свободный рынок (с ограничениями) таких инфраструктурных сервисов, как телефония или электроэнергия.
Хьюз также показал, что национальные инфраструктуры разработаны в соответствии с различными «технологическими стилями». Сравнивая историю электроэнергетических систем США, Германии и Великобритании, он объяснил их техническое разнообразие влиянием исторических и политико-экономических особенностей стран, а иногда и менее осязаемых причин, таких как стремление утвердить национальную идентичность посредством уникального технологического стиля (Hecht 1998).
Группа исследователей больших технологических систем убедительно показала, что эти и подобные модели можно найти в истории многих крупных инфраструктур. Вывод, который можно сделать из результатов этих исследований, двоякий. Во-первых, отдельные инфраструктуры имеют жизненный цикл, модель развития, видимую на историческом временном масштабе. Во-вторых, инфраструктуры состоят не из одного только оборудования, но и из правовых, корпоративных и политико-экономических элементов. К примеру, федеральные земельные дотации, регулирование со стороны Комиссии по торговле между штатами (ICC, Interstate Commerce Commission — прим. пер.), решения Верховного Суда и защита от спекуляций на фондовой бирже имели такое же отношение к развитию американской национальной железнодорожной системы, как и усовершенствование паровых двигателей, железнодорожных технологий и сигнальных систем. «Технология» не просто испытывает влияние общества; она социальна вдоль и поперёк. Для понимания того, как она формируется, необходимо выбрать подходящие временной и социальный масштабы анализа. Хотя отдельные, индивидуальные строители систем, такие как Эдисон, сэр Томас Уотсон-старший или Билл Гейтс очень важны для истории инфраструктур, главный вывод всех вдохновлённых Хьюзом рассказов — большие социальные институты играют решающую роль.
Большинство моделей, обнаруженных исследователями больших технологических систем, касаются непосредственно развития инфраструктур. Но эти два концепта не вполне идентичны. Концепт «больших технологических систем» сосредоточен на развитии вокруг технологического ядра. Инфраструктуры, напротив, являются не просто большими системами, но социотехническими структурами. Некоторые инфраструктуры, такие как школьная или конституционная системы, мало зависят от технологий (хоть я и не буду останавливаться здесь на этой форме инфраструктур). Кроме того, некоторые виды инфраструктур, в особенности это касается цифровых информационных инфраструктур, можно расширять, соединять и «переопределять» практически бесконечно, создавая сети мета-уровня, выходящие за рамки техноцентричной системы. Хорошим примером является современная «цифровая конвергенция», в рамках которой радио, телевидение, музыкальные записи, сотовая телефония и другие медиа объединяются в новую систему на базе интернета Всемирной Паутины. (Edwards 1998a; Edwards 1998b; Hanseth & Monteiro 1998). Очевидно, эти формирующиеся взаимосвязанные системы не работают по принципу кабельных и телефонных сетей. Понятие инфраструктуры в том смысле, в котором я его использую, даёт возможность увидеть протяжённость во времени, пространстве и технологических связях, выходящих за границы отдельных систем.
Такое описание развития инфраструктур превыше сомнений определяет их как модерный феномен. Строительство инфраструктур от регионального до мирового масштаба невозможно без крупных институций с продолжительным жизненным циклом, большой политической, экономической и социальной силой и (в случае с частным сектором) огромным состоянием. Отдельные люди и небольшие группы влияют на их курс, но только на ранних этапах, до того, как институции возьмут контроль в свои руки. Понимание этого обычно сочетается с широко распространённым взглядом на модерность как на подчинение отдельных людей и сообществ государству и корпоративной власти (Borgmann 1984; Borgmann 1992; Foucault 1977; Vig 1988; Winner 1986). Такие императивы действуют посредством обобщённого и прагматически неизбежного встраивания в формы жизни, предписанные инфраструктурами.
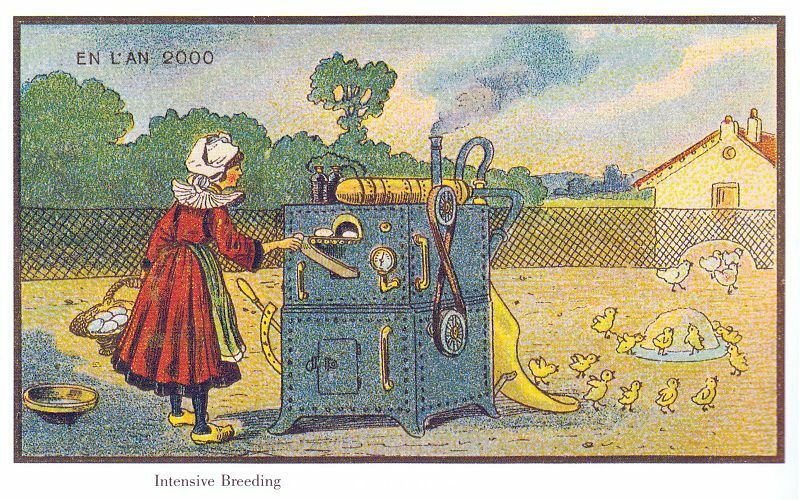
Микро-масштаб: эвристический пользователь
Однако если мы посмотрим на инфраструктуру в других социальных масштабах, мы получим другие выводы. Существенное количество недавних исследований в области социального конструирования технологий (SCOT, Social construction of technology — прим. пер.) фокусировалось на микро-масштабе отдельных людей и небольших социальных групп (Bijker & Law 1992; Bijker et al 1987). Я расскажу о социальной истории телефона Клода Фишера (Fischer 1992) — это один из самых удачных примеров такого подхода.
Фишер изучал пользователей телефонов в то время, когда телефон ещё становился инфраструктурой. Фишер утверждал, что пользовательские инновации повлияли на социальную роль телефона куда больше, чем маркетинг телефонных компаний. Пока первые телефонные компании видели в телефоне аналог телеграфа, главным образом деловой инструмент, женщины (и другие) быстро приспособили его к своим не-деловым нуждам, таким как общение. Поначалу телефонные компании считали это «пустой болтовнёй», впустую расходующей ценность системы; и лишь спустя десятилетия стихийных, инициируемых самими пользователями телефонных разговоров, компании осознали широту представившихся маркетинговых возможностей.
Абоненты-представители рабочего класса тоже придумывали новшества, создавая в своих сообществах социотехнические сети, позволявшие пользоваться технологией телефонии, не подключаясь к системе лично. Например, в рабочих квартала мальчики наблюдали за аппаратами городских платных телефонных аппаратов, отвечали на звонки и затем убегали (буквально), чтобы позвать к телефону того, кому адресован звонок. Этот принцип сохранялся десятилетиями и после того, как домашние телефоны стали доступны даже очень бедным людям. Используя свои собственные тела и сложившиеся структуры сообщества (кварталы, места встреч) в качестве компонентов, эти пользователи запустили важное изменение в инфраструктуре, предложенной им государством и корпорациями [10].
Как утверждал Фишер, вместо того, чтобы рассматривать пользователей в качестве безвольных пешек в руках господствующих корпораций или технологических систем, исследования технологий должны учитывать «эвристичность пользователя». Другими словами, аналитики всегда должны эмпирически изучать, являются ли потребители активными агентами технологических изменений. Фишер признаёт существование важных «системных эффектов» на микро-уровне (например, большие неудобства, которые бывают, когда почти у всех есть телефон, а у тебя нет). Тем не менее, он настаивал, что эмпирическая история телефона не умещается в априорное представление о модерности как о состоянии технозависимости и отчуждения. Напротив, пользователи приспособили технологии телефонии к собственным нуждам и направили их на выражено до-модерную цель: коммуникабельность (sociability).
Однако если мы посмотрим на инфраструктуру в других социальных масштабах, мы получим другие выводы. Существенное количество недавних исследований в области социального конструирования технологий (SCOT, Social construction of technology — прим. пер.) фокусировалось на микро-масштабе отдельных людей и небольших социальных групп (Bijker & Law 1992; Bijker et al 1987). Я расскажу о социальной истории телефона Клода Фишера (Fischer 1992) — это один из самых удачных примеров такого подхода.
Фишер изучал пользователей телефонов в то время, когда телефон ещё становился инфраструктурой. Фишер утверждал, что пользовательские инновации повлияли на социальную роль телефона куда больше, чем маркетинг телефонных компаний. Пока первые телефонные компании видели в телефоне аналог телеграфа, главным образом деловой инструмент, женщины (и другие) быстро приспособили его к своим не-деловым нуждам, таким как общение. Поначалу телефонные компании считали это «пустой болтовнёй», впустую расходующей ценность системы; и лишь спустя десятилетия стихийных, инициируемых самими пользователями телефонных разговоров, компании осознали широту представившихся маркетинговых возможностей.
Абоненты-представители рабочего класса тоже придумывали новшества, создавая в своих сообществах социотехнические сети, позволявшие пользоваться технологией телефонии, не подключаясь к системе лично. Например, в рабочих квартала мальчики наблюдали за аппаратами городских платных телефонных аппаратов, отвечали на звонки и затем убегали (буквально), чтобы позвать к телефону того, кому адресован звонок. Этот принцип сохранялся десятилетиями и после того, как домашние телефоны стали доступны даже очень бедным людям. Используя свои собственные тела и сложившиеся структуры сообщества (кварталы, места встреч) в качестве компонентов, эти пользователи запустили важное изменение в инфраструктуре, предложенной им государством и корпорациями [10].
Как утверждал Фишер, вместо того, чтобы рассматривать пользователей в качестве безвольных пешек в руках господствующих корпораций или технологических систем, исследования технологий должны учитывать «эвристичность пользователя». Другими словами, аналитики всегда должны эмпирически изучать, являются ли потребители активными агентами технологических изменений. Фишер признаёт существование важных «системных эффектов» на микро-уровне (например, большие неудобства, которые бывают, когда почти у всех есть телефон, а у тебя нет). Тем не менее, он настаивал, что эмпирическая история телефона не умещается в априорное представление о модерности как о состоянии технозависимости и отчуждения. Напротив, пользователи приспособили технологии телефонии к собственным нуждам и направили их на выражено до-модерную цель: коммуникабельность (sociability).
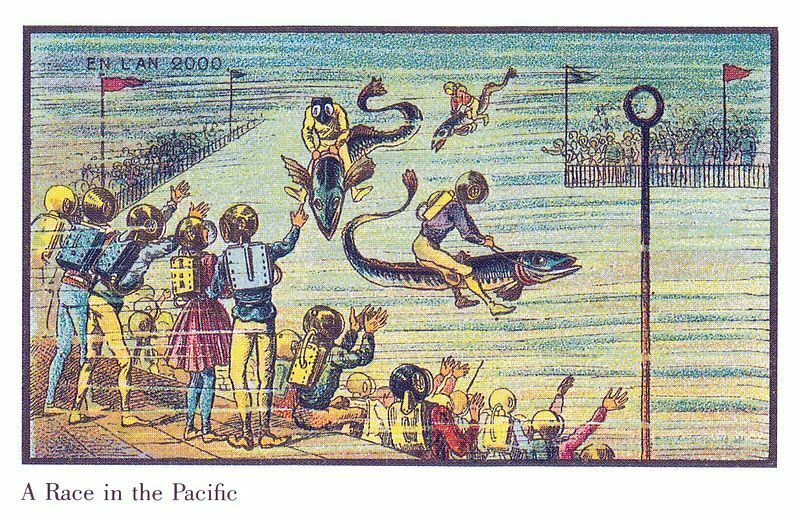
Приложение понятия «эвристичности потребителя» к истории ARPANET/интернет
Эмпирические исследования сети ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network, сеть агентства передовых исследовательских проектов ARPA — прим. пер.), Интернета и Всемирной Паутины пролили свет на сюжеты, похожие на рассказ Фишера о телефонных сетях. В 1968−69 годах создатели сети ARPANET задумали её как официальный канал связи между спонсируемыми ARPA исследовательскими группами на территории США (далее см. другую особенность создания ARPANET). Цель заключалась в том, чтобы предоставить специалистам в области computer science возможность быстрого обмена программами и данными, сокращая задержки и преодолевая неэффективность существующих каналов — телефона и обычной почты.
Однако, к 1972 году пользователи ARPANET написали простые программы электронной почты, позволявшие использовать систему в роли неофициального и неспециализированного средства связи. Всего через 3 года после создания ARPANET 75% сетевого трафика приходилось на электронную почту (Hafner 1996, 194). В истории информационных технологий есть много примеров такого стихийного захвата официального канала (medium) для личных целей. Например, корпорации, использовавшие электронную почту для групповой работы, порой устанавливали избирательный контроль над сотрудниками, чтобы те не могли использовать этот канал для общения. Хотя их (модерное) право делать это было защищено американскими судами (внутренняя переписка, с точки зрения закона, считается официальной), неблагоприятные последствия такой стратегии зачастую заставляли корпорации отказаться от контроля (Zuboff 1988).
Похожим образом сетевые конференции (на русском это называется «ньюсгруппы» — прим. ред.) Usenet оказались неожиданным применением ARPANET, придуманным пользователями (Hauben 1996). Хотя изначально многие ньюсгруппы были посвящены информационным технологиям, очень скоро они превратились в канал общего назначения для обсуждения широкого спектра тем. Сегодня Usenet объединяет десятки тысяч конференций на различные темы, от дайвинга до Стар Трека. Эти и другие подобные феномены были названы «виртуальными сообществами» (Rheingold 1993). По телефону обычно говорят люди, знакомые лично, а такие формы интернет-общения, как правило, предполагают взаимодействие незнакомцев, которые никогда не встречаются лицом к лицу.
WWW, Всемирная Паутина, появилась в Европейской лаборатории физики высоких энергий CERN (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire , англ. European Organization for Nuclear Research, Европейская организация по ядерным исследованиям — прим. пер.) в конце 1980-х. Как и всегда, их первоначальные задачи были узкоспециализированными и сугубо служебными. Заголовок документа, вносящего предложение о том, что позже стало Всемирной Паутиной, звучал как: «Управление информацией: заявка». Его автор, Тим Бернерс-Ли, искал способ оптимизации документации и больших объёмов данных, рассылаемых по всему миру, для многочисленных физиков, принимавших участие в экспериментах CERN. Он предложил систему, в которой эти документы и данные были бы легко доступны через гипертекстовый интерфейс с использованием простого интернет-протокола (HTTP, hypertext transfer protocol — протокол передачи гипертекста). Бернерс-Ли в 1990-м году назвал его Всемирной Паутиной (WWW).
Правда, в то время это называлось «Всемирная паутина физики высоких энергий». Бернерс-Ли и Роберт Кайо написали в проектной заявке 1990-го года:
Эмпирические исследования сети ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network, сеть агентства передовых исследовательских проектов ARPA — прим. пер.), Интернета и Всемирной Паутины пролили свет на сюжеты, похожие на рассказ Фишера о телефонных сетях. В 1968−69 годах создатели сети ARPANET задумали её как официальный канал связи между спонсируемыми ARPA исследовательскими группами на территории США (далее см. другую особенность создания ARPANET). Цель заключалась в том, чтобы предоставить специалистам в области computer science возможность быстрого обмена программами и данными, сокращая задержки и преодолевая неэффективность существующих каналов — телефона и обычной почты.
Однако, к 1972 году пользователи ARPANET написали простые программы электронной почты, позволявшие использовать систему в роли неофициального и неспециализированного средства связи. Всего через 3 года после создания ARPANET 75% сетевого трафика приходилось на электронную почту (Hafner 1996, 194). В истории информационных технологий есть много примеров такого стихийного захвата официального канала (medium) для личных целей. Например, корпорации, использовавшие электронную почту для групповой работы, порой устанавливали избирательный контроль над сотрудниками, чтобы те не могли использовать этот канал для общения. Хотя их (модерное) право делать это было защищено американскими судами (внутренняя переписка, с точки зрения закона, считается официальной), неблагоприятные последствия такой стратегии зачастую заставляли корпорации отказаться от контроля (Zuboff 1988).
Похожим образом сетевые конференции (на русском это называется «ньюсгруппы» — прим. ред.) Usenet оказались неожиданным применением ARPANET, придуманным пользователями (Hauben 1996). Хотя изначально многие ньюсгруппы были посвящены информационным технологиям, очень скоро они превратились в канал общего назначения для обсуждения широкого спектра тем. Сегодня Usenet объединяет десятки тысяч конференций на различные темы, от дайвинга до Стар Трека. Эти и другие подобные феномены были названы «виртуальными сообществами» (Rheingold 1993). По телефону обычно говорят люди, знакомые лично, а такие формы интернет-общения, как правило, предполагают взаимодействие незнакомцев, которые никогда не встречаются лицом к лицу.
WWW, Всемирная Паутина, появилась в Европейской лаборатории физики высоких энергий CERN (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire , англ. European Organization for Nuclear Research, Европейская организация по ядерным исследованиям — прим. пер.) в конце 1980-х. Как и всегда, их первоначальные задачи были узкоспециализированными и сугубо служебными. Заголовок документа, вносящего предложение о том, что позже стало Всемирной Паутиной, звучал как: «Управление информацией: заявка». Его автор, Тим Бернерс-Ли, искал способ оптимизации документации и больших объёмов данных, рассылаемых по всему миру, для многочисленных физиков, принимавших участие в экспериментах CERN. Он предложил систему, в которой эти документы и данные были бы легко доступны через гипертекстовый интерфейс с использованием простого интернет-протокола (HTTP, hypertext transfer protocol — протокол передачи гипертекста). Бернерс-Ли в 1990-м году назвал его Всемирной Паутиной (WWW).
Правда, в то время это называлось «Всемирная паутина физики высоких энергий». Бернерс-Ли и Роберт Кайо написали в проектной заявке 1990-го года:
«…всемирная гипертекстовая система, однажды созданная, охватит многие области, такие как регистрация документов, оперативная помощь, проектная документация, новостные программы и т. д. Нам было бы неуместно предлагать конкретные области (пусть это будут те, кто в них задействован), но экспериментальная оперативная помощь, поддержка операторов компьютерного центра и распространение информации центральными службами — это очевидные кандидаты. WorldWideWeb (W3) предназначена для того, чтобы поддерживать эти сервисы для всего сообщества физиков высоких энергий (Berners-Lee & Cailliau 1990, подчеркивание П. Эдвардса)».
Похожая риторика была у большинства ранних проектов CERN. До середины 1993 года фактически все компьютерные сервера, на которых выполнялся HTTP, располагались в CERN и других лабораториях физики высоких энергий по всему миру.
Но и тут, тем не менее, пользователи очень быстро начали добавлять функции и использовать систему для общего назначения. В отличие от создателей ARPANET, Бернерс-Ли и его коллеги специально построили систему так, чтобы дать пользователям возможность добавлять новые материалы и расширять протокол передачи данных. После выхода в 1993-м году графического браузера (Mosaic), созданного Национальным Центром Суперкомпьютерных Приложений (NCSA, National Center for Supercomputing Applications, в основном он сопровождал лаборатории физиков в США), WWW начинает стремительный рост и превращается в развивающуюся инфраструктуру, которую мы знаем сегодня.
Эти примеры хорошо иллюстрируют важный для теорий модерности вывод из эмпирических исследований. Избирательное внимание к специфически «модерным» аспектам инфраструктур может привести к слепоте по отношению к другим аспектам, которые могут быть «анти-модерными» (как Фишер назвал использование телефонных сетей для личного общения). Исследования модерности, например, отмечают анонимный и географически смещённый характер виртуальных интернет-сообществ (Stratton 1997), но игнорируют или отвергают как утопическую иллюзию такие хорошо описанные их особенности, как спонтанность, способность к самоорганизации и коммуникабельность (Rheingold 1993; Rheingold 1996; Sproull & Kiesler 1991). Они указывают на всеобъемлющую силу корпоративного надзора в рабочих офисах, но не замечают того, как сотрудникам удаётся обойти этот надзор (Zuboff 1988) [11].
Ключевой момент в том, что у инфраструктур (как и у всех социотехнических систем) есть множество составляющих, порой довольно противоречивых. На микро-масштабе социальной организации «модерность» как зависимость, контроль, господство систем, паноптицизм размывается, её трудно обнаружить.
Но и тут, тем не менее, пользователи очень быстро начали добавлять функции и использовать систему для общего назначения. В отличие от создателей ARPANET, Бернерс-Ли и его коллеги специально построили систему так, чтобы дать пользователям возможность добавлять новые материалы и расширять протокол передачи данных. После выхода в 1993-м году графического браузера (Mosaic), созданного Национальным Центром Суперкомпьютерных Приложений (NCSA, National Center for Supercomputing Applications, в основном он сопровождал лаборатории физиков в США), WWW начинает стремительный рост и превращается в развивающуюся инфраструктуру, которую мы знаем сегодня.
Эти примеры хорошо иллюстрируют важный для теорий модерности вывод из эмпирических исследований. Избирательное внимание к специфически «модерным» аспектам инфраструктур может привести к слепоте по отношению к другим аспектам, которые могут быть «анти-модерными» (как Фишер назвал использование телефонных сетей для личного общения). Исследования модерности, например, отмечают анонимный и географически смещённый характер виртуальных интернет-сообществ (Stratton 1997), но игнорируют или отвергают как утопическую иллюзию такие хорошо описанные их особенности, как спонтанность, способность к самоорганизации и коммуникабельность (Rheingold 1993; Rheingold 1996; Sproull & Kiesler 1991). Они указывают на всеобъемлющую силу корпоративного надзора в рабочих офисах, но не замечают того, как сотрудникам удаётся обойти этот надзор (Zuboff 1988) [11].
Ключевой момент в том, что у инфраструктур (как и у всех социотехнических систем) есть множество составляющих, порой довольно противоречивых. На микро-масштабе социальной организации «модерность» как зависимость, контроль, господство систем, паноптицизм размывается, её трудно обнаружить.
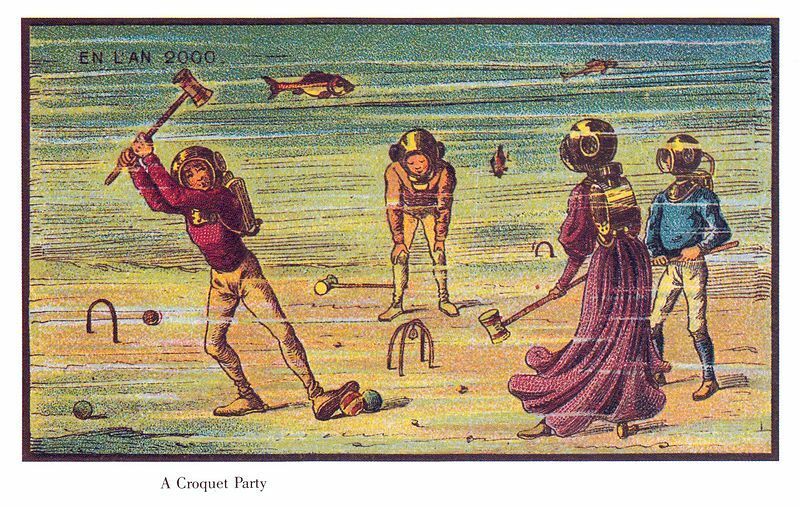
Макро-масштаб: функциональные подходы к изменению инфраструктур
Эмпирические исследования на макро-уровне, исследования целых обществ и экономических систем, обнаруживают ещё один набор моделей, особенно когда они тоже работают на уровне исторического времени. Как заметил Миса, объяснения на этих уровнях склонны быть скорее функциональными и системными, чем конструктивистскими.
На масштабе всего общества и исторического времени инфраструктуры умирают. Газовое освещение, телеграф, пассажирские железные дороги и городские трамваи — всё это примеры некогда крупных инфраструктур, погибших или крайне ослабевших на территории США. Любое исчерпывающее объяснение того, почему они исчезли, в первую очередь требует функционального подхода к изучению причин их появления. Если мы обратим внимание на функцию, а не на технологию или инфраструктуру, которая эту функцию выполняет, мы увидим не исчезновение, а рост. Газовое освещение, может, и исчезло, но искусственный свет освещает весь мир; телеграф ушёл, но ему на смену пришли куда более сложные и эффективные системы дистанционной связи.
На этом масштабе мы видим, что новые инфраструктуры вначале дополняют существующие, чтобы, в некоторых случаях, прийти им на смену. К примеру (недорогие) услуги почты дополнили (дорогой) телеграф. Телефон сначала дополнял тот же телеграф, а потом заменил его [12]. Прямо сейчас электронная почта дополняет телефон и стремительно замещает почтовые службы для нужд личной переписки. Инфраструктуры, предоставляющие эти услуги, изменились, их основные функции — нет [13]. В этой перспективе нам не особенно важны конкретные технологии, и сама эта перспектива зависит от масштаба. На макро-масштабе времени и социальной организации функция важнее формы.
Бенигер, к примеру, разработал теорию промышленного капитализма, сосредоточенную вокруг проблемы контроля — функциональном вопросе, связывающем технологическое, социальное, институциональное и информационное измерения. Он утверждал, что общий «кризис контроля» возник в результате промышленной революции. Массовое производство техники повлекло за собой проблемы контроля на микро-уровне отдельных машин; такие технологии, как паровой двигатель и жаккардовый ткацкий станок, представляли решения для этого уровня. Но массовое производство также породило кризис контроля на макро-уровне всей системы производства-распределения-потребления. Товаров производилось больше, чем местные рынки могли употребить. Поэтому поиск новых рынков для быстро растущих объёмов производства вскоре стал первоочередной задачей. Быстрая транспортная система с большей пропускной способностью могла увеличить поток товаров массового производства на новые, отдалённые рынки (возвращаемся к определению инфраструктуры PCCIP выше). Таким образом, транспортировка стала тем, что Хьюз назвал«реверсивным выступом» (reverse salient [14]) в системе распределения, на преодоление которого направлены такие технологические инновации, как железные дороги, грузовики, воздушный транспорт.
Но чтобы отрегулировать новые, ускорившиеся потоки, производители и распространители нуждались в более качественных и быстрых механизмах управления. Информационные потребности — в инвентаризации, оформлении счетов, заказов, комиссий и т. д. — чрезвычайно выросли вместе с масштабами системы производства и распределения. Решения для коммуникации и обработки информации были как технологическими, так и социальными. Бенигер утверждает, что рост бюрократий в XIX веке был прямым ответом на запросы информационного обеспечения. Как Чендлер, Йейтс и другие (Chandler 1977; Yates 1989), Бенигер отмечает, что самая большая и сложная инфраструктура XIX века — железные дороги — внедрила инновации и в организации, и в информационные технологии для координации своих обширных сетей. Проблемы планирования, оптимизации грузоперевозок, пересылки грузов с одной железной дороги на другую, технологическая стандартизация и учёт в сфере, быстро превратившейся в государственную и континентальную, были серьёзными задачами. Железные дороги решали эти проблемы контроля двояко: и посредством социальных инноваций (сложной административной организации с многоуровневой управленческой иерархией и высоким уровнем функциональной специализации), и при помощи технологических изменений (картотечные шкафы вертикального хранения, стандартизированные формы отчётности и бухгалтерского учёта, т.д.). Позже эти социотехнические системы стали образцом управления (контроля) для других возникающих инфраструктур, таких как телефонная сеть, которая приняла их и приспособила под себя (Friedlander 1995).
Контроль посредством информации и коммуникации был обусловлен двумя дополнительными обязательными задачами, вытекающими из производственно-распределительной проблемы, описанной выше. Во-первых, эффективное распределение по разрастающимся, разветвлённым торговым сетям потребовало обратной связи; с ускорением потоков скорость приобрела решающее значение. Такие коммуникационные инновации, как телеграф и телефон, обеспечили получение почти мгновенного отклика, увеличив возможности управления всей производственно-распределительной системой. Во-вторых, утверждал Бенигер, проблемой стало само открытие новых рынков, поскольку даже отдалённые рынки были товарами массового производства. Реклама — путь к формированию спроса, нередко основанного на «потребностях», взявшихся из воздуха — и маркетинговые исследования, ещё одна форма обратной связи, направленная на повышение эффективности продаж и дистрибуции, были ответом на проблему нового реверсивного выступа.
У такого функционального макромасштабного исследования есть несколько уникальных преимуществ. Во-первых, внимание обращено не на «технологию», а на социотехнические решения широкого спектра проблем. Как ни парадоксально, пока многие читают Бенигера как экономического и технологического детерминиста, его функционалистский взгляд можно увидеть как предельную степень социального конструктивизма, поскольку решением проблемы может быть как оборудование, так иорганизационная форма, пользовательские инновации на микро-уровне или некоторая их комбинация.
Работа Бенигера во многом проблематична. В частности, некоторые исследователи спорят с идеей о том, что промышленным капитализмом движет внутренняя функциональная логика, не зависящая от географического месторасположения или предшествующей истории. Существование разнообразных технологий производства и структур в разных отраслях промышленности, странах и временных периодах использовалось как доказательство того, что макро-масштаб не позволяет объяснить (или даже корректно описать) исторические реалии (Sabel & Zeitlin 1985; Sabel & Zeitlin 1997).
Этот спор так и не разрешён, и я не надеюсь разрешить его здесь. И всё же что-то вроде макро-эволюционного взгляда Бенигера на промышленный капитализм широко распространено, особенно среди марксистов и сторонников мир-системной теории. Так или иначе, этот способ анализа в целом верный и заметно недооценён. Концепция «революции контроля» позволяет нам понять не только происхождение и рост многих крупных инфраструктур, определяющих модерность (см. список в начале этой главы), но и то, как соединялись эти инфраструктуры друг с другом, начиная (возможно) с со-развития телеграфа и железнодорожной сети в начале XIX века.
Объясняя информационную инфраструктуру: макро-перспектива
Макро-перспектива важна для понимания происхождения, эволюции и значимости модерных информационных инфраструктур, а также для исследований модерности. Одно из соображений, которые мы получаем от этой перспективы, заключается в том, что идея «компьютерной революции» или, как недавно говорили, «информационной революции» упускает из виду непрерывность информационных инфраструктур во времени. Информационные системы как инфраструктуры являются решением функциональных проблем хранения, передачи, доступа к информации и поиска; книги и библиотеки остаются самыми важными информационными инфраструктурами и по сей день.
С момента внедрения картотечных шкафов вертикального хранения, печатных машинок и оборудования для табуляции перфокарт — с конца XIX века технологии обработки информации всегда привлекали внимание инноваторов (Campbell-Kelly & Aspray 1996; Cortada 1993; Cortada 1996). Бинигер объясняет, почему так должно было случиться. Всё более глобальные, рынки после Второй мировой войны столкнулись с новыми проблемами контроля, поскольку скорость и эффективность транспортировки грузов возросли благодаря авиаперевозкам, интермодальным перевозкам (т.е. таким, которые перевозят товар в рамках одного договора несколькими видами транспорта — прим. пер.) и другим инфраструктурных инновациям. Для осуществления контроля требуется информация; возрастающие скорости и/или размеры подконтрольных систем нуждаются, в свою очередь, в быстрых и мощных технологиях обработки информации. Качественная обработка информации нужна не только ради удобства, это sine qua non («то, без чего не», необходимый элемент, лат. — прим. пер.) возрастающих скоростей и масштабов глобальной материальной экономики.
Примерно так Мануэль Кастельс в своём монументальном трёхтомном труде «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» описал функциональный вклад компьютеров и телекоммуникаций в новый «информационный способ развития», т. е. «технологические схемы, через которые труд воздействует на материал, чтобы создать продукт» (Castells 1989, 10, цит. по пер. А. Субочева, Б. Верпаховского, Д. Тищенко). Информация оказывается и сырьём, и продуктом сразу. Эта особенность питает вечно ускоряющийся цикл развития; поскольку каждый новый процесс или продукт состоит в основном из информации, он может мгновенно стать входом в новый раунд инноваций (Castells 1996, 32−65). В силу этого информационная инфраструктура играет вдвойне важную роль как основа не только информационных продуктов и процессов, но и глобальной организации производства и распределения материальных продуктов. Информационный способ развития принимает различные формы в разных регионах мира, при этом материальное производство сосредоточено в одних областях, а информационное производство — в других. Но информационные технологии, утверждал Кастельс, создают «сетевую логику», объединяющую отдельные технологии в более крупные системы. К этому мы ещё вернёмся.
Смысл не в том, чтобы поставить IT в центре какой-либо прогрессистской идеологии. Вместо этого я всего лишь хочу признать, что, хорошо это или нет, на макро-уровне времени и социальной организации со-развитие промышленного капитализма и его инфраструктур демонстрирует мощную, если и не всеобъемлющую, функциональную логику. Как отметил Хьюз, эта логика объясняет такой исторический феномен, как одновременное изобретение чего-либо; для тех, кто понимает общие системные характеристики и потенциал, реверсивные выступы могут стать совершенно очевидными и вызвать сильный теоретический, практический (инженерный) и экономический интерес. Принятые решения не обязательно являются «лучшими», если такой термин вообще уместен; это всего лишь то, что было предложено рынку. Принципом технологических изменений является не «выживает сильнейший», а «выживает выживший». Ни Бенигер, ни Кастельс не в силах объяснить, почему возникает конкретная инновация или почему одна инновация, а не другая, становится успешной; именно для этого нужны микро- и мезо-масштабы. Тем не менее, макро-масштаб ставит во главу угла информационные технологии, способы контроля и то, как системные проблемы промышленного и постиндустриального капитализма порождают технологические решения и, в свою очередь, бывают управляемы особыми силами, которые сами и создают.
На самых больших масштабах принципы увеличения скорости, объёма и эффективности приводят в движение всю экономику. Развитие одной области (например, производственной мощности) создаёт реверсивный выступ в другой (напр., рынок «развития»). Исчерпывающе описать систему можно с точки зрения социотехнических проблем; их информационные измерения могут быть описаны в рамках контроля Бенигера. Так же как Хьюз использовал обратный крен для объяснения феноменов одновременного возникновения электроэнергии и освещения, макроуровневая концепция проблемы контроля в условиях индустриального капитализма, в представлении Бенигера, помогает оценить вложения в информационную инфраструктуру и исследования информационных технологий на протяжении XIX-го и XX-го веков.
Эмпирические исследования на макро-уровне, исследования целых обществ и экономических систем, обнаруживают ещё один набор моделей, особенно когда они тоже работают на уровне исторического времени. Как заметил Миса, объяснения на этих уровнях склонны быть скорее функциональными и системными, чем конструктивистскими.
На масштабе всего общества и исторического времени инфраструктуры умирают. Газовое освещение, телеграф, пассажирские железные дороги и городские трамваи — всё это примеры некогда крупных инфраструктур, погибших или крайне ослабевших на территории США. Любое исчерпывающее объяснение того, почему они исчезли, в первую очередь требует функционального подхода к изучению причин их появления. Если мы обратим внимание на функцию, а не на технологию или инфраструктуру, которая эту функцию выполняет, мы увидим не исчезновение, а рост. Газовое освещение, может, и исчезло, но искусственный свет освещает весь мир; телеграф ушёл, но ему на смену пришли куда более сложные и эффективные системы дистанционной связи.
На этом масштабе мы видим, что новые инфраструктуры вначале дополняют существующие, чтобы, в некоторых случаях, прийти им на смену. К примеру (недорогие) услуги почты дополнили (дорогой) телеграф. Телефон сначала дополнял тот же телеграф, а потом заменил его [12]. Прямо сейчас электронная почта дополняет телефон и стремительно замещает почтовые службы для нужд личной переписки. Инфраструктуры, предоставляющие эти услуги, изменились, их основные функции — нет [13]. В этой перспективе нам не особенно важны конкретные технологии, и сама эта перспектива зависит от масштаба. На макро-масштабе времени и социальной организации функция важнее формы.
Бенигер, к примеру, разработал теорию промышленного капитализма, сосредоточенную вокруг проблемы контроля — функциональном вопросе, связывающем технологическое, социальное, институциональное и информационное измерения. Он утверждал, что общий «кризис контроля» возник в результате промышленной революции. Массовое производство техники повлекло за собой проблемы контроля на микро-уровне отдельных машин; такие технологии, как паровой двигатель и жаккардовый ткацкий станок, представляли решения для этого уровня. Но массовое производство также породило кризис контроля на макро-уровне всей системы производства-распределения-потребления. Товаров производилось больше, чем местные рынки могли употребить. Поэтому поиск новых рынков для быстро растущих объёмов производства вскоре стал первоочередной задачей. Быстрая транспортная система с большей пропускной способностью могла увеличить поток товаров массового производства на новые, отдалённые рынки (возвращаемся к определению инфраструктуры PCCIP выше). Таким образом, транспортировка стала тем, что Хьюз назвал«реверсивным выступом» (reverse salient [14]) в системе распределения, на преодоление которого направлены такие технологические инновации, как железные дороги, грузовики, воздушный транспорт.
Но чтобы отрегулировать новые, ускорившиеся потоки, производители и распространители нуждались в более качественных и быстрых механизмах управления. Информационные потребности — в инвентаризации, оформлении счетов, заказов, комиссий и т. д. — чрезвычайно выросли вместе с масштабами системы производства и распределения. Решения для коммуникации и обработки информации были как технологическими, так и социальными. Бенигер утверждает, что рост бюрократий в XIX веке был прямым ответом на запросы информационного обеспечения. Как Чендлер, Йейтс и другие (Chandler 1977; Yates 1989), Бенигер отмечает, что самая большая и сложная инфраструктура XIX века — железные дороги — внедрила инновации и в организации, и в информационные технологии для координации своих обширных сетей. Проблемы планирования, оптимизации грузоперевозок, пересылки грузов с одной железной дороги на другую, технологическая стандартизация и учёт в сфере, быстро превратившейся в государственную и континентальную, были серьёзными задачами. Железные дороги решали эти проблемы контроля двояко: и посредством социальных инноваций (сложной административной организации с многоуровневой управленческой иерархией и высоким уровнем функциональной специализации), и при помощи технологических изменений (картотечные шкафы вертикального хранения, стандартизированные формы отчётности и бухгалтерского учёта, т.д.). Позже эти социотехнические системы стали образцом управления (контроля) для других возникающих инфраструктур, таких как телефонная сеть, которая приняла их и приспособила под себя (Friedlander 1995).
Контроль посредством информации и коммуникации был обусловлен двумя дополнительными обязательными задачами, вытекающими из производственно-распределительной проблемы, описанной выше. Во-первых, эффективное распределение по разрастающимся, разветвлённым торговым сетям потребовало обратной связи; с ускорением потоков скорость приобрела решающее значение. Такие коммуникационные инновации, как телеграф и телефон, обеспечили получение почти мгновенного отклика, увеличив возможности управления всей производственно-распределительной системой. Во-вторых, утверждал Бенигер, проблемой стало само открытие новых рынков, поскольку даже отдалённые рынки были товарами массового производства. Реклама — путь к формированию спроса, нередко основанного на «потребностях», взявшихся из воздуха — и маркетинговые исследования, ещё одна форма обратной связи, направленная на повышение эффективности продаж и дистрибуции, были ответом на проблему нового реверсивного выступа.
У такого функционального макромасштабного исследования есть несколько уникальных преимуществ. Во-первых, внимание обращено не на «технологию», а на социотехнические решения широкого спектра проблем. Как ни парадоксально, пока многие читают Бенигера как экономического и технологического детерминиста, его функционалистский взгляд можно увидеть как предельную степень социального конструктивизма, поскольку решением проблемы может быть как оборудование, так иорганизационная форма, пользовательские инновации на микро-уровне или некоторая их комбинация.
Работа Бенигера во многом проблематична. В частности, некоторые исследователи спорят с идеей о том, что промышленным капитализмом движет внутренняя функциональная логика, не зависящая от географического месторасположения или предшествующей истории. Существование разнообразных технологий производства и структур в разных отраслях промышленности, странах и временных периодах использовалось как доказательство того, что макро-масштаб не позволяет объяснить (или даже корректно описать) исторические реалии (Sabel & Zeitlin 1985; Sabel & Zeitlin 1997).
Этот спор так и не разрешён, и я не надеюсь разрешить его здесь. И всё же что-то вроде макро-эволюционного взгляда Бенигера на промышленный капитализм широко распространено, особенно среди марксистов и сторонников мир-системной теории. Так или иначе, этот способ анализа в целом верный и заметно недооценён. Концепция «революции контроля» позволяет нам понять не только происхождение и рост многих крупных инфраструктур, определяющих модерность (см. список в начале этой главы), но и то, как соединялись эти инфраструктуры друг с другом, начиная (возможно) с со-развития телеграфа и железнодорожной сети в начале XIX века.
Объясняя информационную инфраструктуру: макро-перспектива
Макро-перспектива важна для понимания происхождения, эволюции и значимости модерных информационных инфраструктур, а также для исследований модерности. Одно из соображений, которые мы получаем от этой перспективы, заключается в том, что идея «компьютерной революции» или, как недавно говорили, «информационной революции» упускает из виду непрерывность информационных инфраструктур во времени. Информационные системы как инфраструктуры являются решением функциональных проблем хранения, передачи, доступа к информации и поиска; книги и библиотеки остаются самыми важными информационными инфраструктурами и по сей день.
С момента внедрения картотечных шкафов вертикального хранения, печатных машинок и оборудования для табуляции перфокарт — с конца XIX века технологии обработки информации всегда привлекали внимание инноваторов (Campbell-Kelly & Aspray 1996; Cortada 1993; Cortada 1996). Бинигер объясняет, почему так должно было случиться. Всё более глобальные, рынки после Второй мировой войны столкнулись с новыми проблемами контроля, поскольку скорость и эффективность транспортировки грузов возросли благодаря авиаперевозкам, интермодальным перевозкам (т.е. таким, которые перевозят товар в рамках одного договора несколькими видами транспорта — прим. пер.) и другим инфраструктурных инновациям. Для осуществления контроля требуется информация; возрастающие скорости и/или размеры подконтрольных систем нуждаются, в свою очередь, в быстрых и мощных технологиях обработки информации. Качественная обработка информации нужна не только ради удобства, это sine qua non («то, без чего не», необходимый элемент, лат. — прим. пер.) возрастающих скоростей и масштабов глобальной материальной экономики.
Примерно так Мануэль Кастельс в своём монументальном трёхтомном труде «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» описал функциональный вклад компьютеров и телекоммуникаций в новый «информационный способ развития», т. е. «технологические схемы, через которые труд воздействует на материал, чтобы создать продукт» (Castells 1989, 10, цит. по пер. А. Субочева, Б. Верпаховского, Д. Тищенко). Информация оказывается и сырьём, и продуктом сразу. Эта особенность питает вечно ускоряющийся цикл развития; поскольку каждый новый процесс или продукт состоит в основном из информации, он может мгновенно стать входом в новый раунд инноваций (Castells 1996, 32−65). В силу этого информационная инфраструктура играет вдвойне важную роль как основа не только информационных продуктов и процессов, но и глобальной организации производства и распределения материальных продуктов. Информационный способ развития принимает различные формы в разных регионах мира, при этом материальное производство сосредоточено в одних областях, а информационное производство — в других. Но информационные технологии, утверждал Кастельс, создают «сетевую логику», объединяющую отдельные технологии в более крупные системы. К этому мы ещё вернёмся.
Смысл не в том, чтобы поставить IT в центре какой-либо прогрессистской идеологии. Вместо этого я всего лишь хочу признать, что, хорошо это или нет, на макро-уровне времени и социальной организации со-развитие промышленного капитализма и его инфраструктур демонстрирует мощную, если и не всеобъемлющую, функциональную логику. Как отметил Хьюз, эта логика объясняет такой исторический феномен, как одновременное изобретение чего-либо; для тех, кто понимает общие системные характеристики и потенциал, реверсивные выступы могут стать совершенно очевидными и вызвать сильный теоретический, практический (инженерный) и экономический интерес. Принятые решения не обязательно являются «лучшими», если такой термин вообще уместен; это всего лишь то, что было предложено рынку. Принципом технологических изменений является не «выживает сильнейший», а «выживает выживший». Ни Бенигер, ни Кастельс не в силах объяснить, почему возникает конкретная инновация или почему одна инновация, а не другая, становится успешной; именно для этого нужны микро- и мезо-масштабы. Тем не менее, макро-масштаб ставит во главу угла информационные технологии, способы контроля и то, как системные проблемы промышленного и постиндустриального капитализма порождают технологические решения и, в свою очередь, бывают управляемы особыми силами, которые сами и создают.
На самых больших масштабах принципы увеличения скорости, объёма и эффективности приводят в движение всю экономику. Развитие одной области (например, производственной мощности) создаёт реверсивный выступ в другой (напр., рынок «развития»). Исчерпывающе описать систему можно с точки зрения социотехнических проблем; их информационные измерения могут быть описаны в рамках контроля Бенигера. Так же как Хьюз использовал обратный крен для объяснения феноменов одновременного возникновения электроэнергии и освещения, макроуровневая концепция проблемы контроля в условиях индустриального капитализма, в представлении Бенигера, помогает оценить вложения в информационную инфраструктуру и исследования информационных технологий на протяжении XIX-го и XX-го веков.
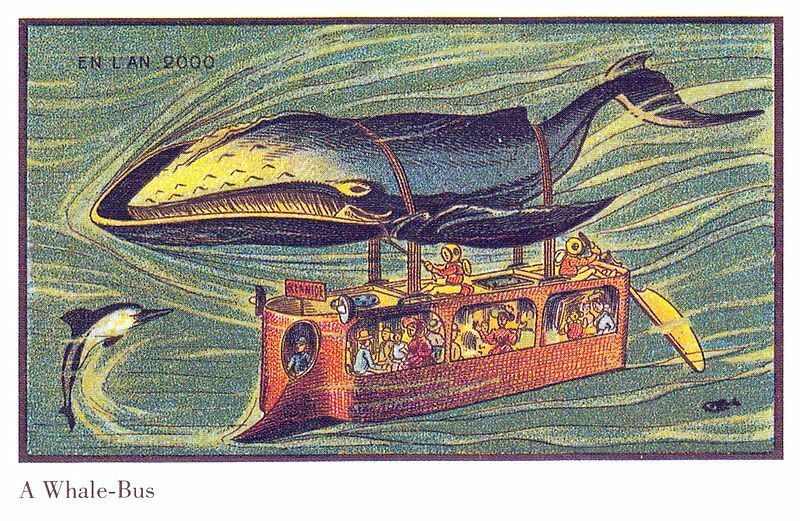
Проблема масштаба в истории информационных технологий
В этой главе я хочу продемонстрировать важность масштаба на примере моих работ по истории компьютеров.
Электронные цифровые компьютеры были разработаны в сугубо модерных целях — дешифровка, баллистические расчёты для вооруженных сил, обработка данных для крупных корпораций и правительств, числовые расчёты для «большой науки». Один из ключевых эпизодов ранней истории компьютеров — появление единой системы централизованного управления, самой большой из когда-либо созданных: системы управления ядерными силами времён Холодной войны. Сложно придумать более удачный символ модерности.
По иронии судьбы через десятилетия эти машины превратились в настольные устройства и встраиваемые компьютеры, благодаря которым управление стало более рассредоточенным. Нынешняя эпоха, удачно описанная фразой Кастельса о «сетевом обществе», мало похожа на подчинение крупным системам управления, характерным для некоторых концепций модерности. Наша эпоха постмодерная и одновременно, как уже было упомянуто, во многом антимодерная. Действительно, противоречия между централизованными, иерархическими формами власти, с одной стороны, и децентрализованными, распределёнными, сетевыми формами власти, с другой, являются наиболее значительной характеристикой сегодняшнего дня. Множество фактов свидетельствуют о возрастании значимости сетей как основного вида социотехнической организации. Доступность новых информационных технологий способствует этому росту, хотя и не обуславливает его (Arquilla, Ronfeldt, 1997; Castells, 1996; Held et al., 1999).
В этой главе я хочу продемонстрировать важность масштаба на примере моих работ по истории компьютеров.
Электронные цифровые компьютеры были разработаны в сугубо модерных целях — дешифровка, баллистические расчёты для вооруженных сил, обработка данных для крупных корпораций и правительств, числовые расчёты для «большой науки». Один из ключевых эпизодов ранней истории компьютеров — появление единой системы централизованного управления, самой большой из когда-либо созданных: системы управления ядерными силами времён Холодной войны. Сложно придумать более удачный символ модерности.
По иронии судьбы через десятилетия эти машины превратились в настольные устройства и встраиваемые компьютеры, благодаря которым управление стало более рассредоточенным. Нынешняя эпоха, удачно описанная фразой Кастельса о «сетевом обществе», мало похожа на подчинение крупным системам управления, характерным для некоторых концепций модерности. Наша эпоха постмодерная и одновременно, как уже было упомянуто, во многом антимодерная. Действительно, противоречия между централизованными, иерархическими формами власти, с одной стороны, и децентрализованными, распределёнными, сетевыми формами власти, с другой, являются наиболее значительной характеристикой сегодняшнего дня. Множество фактов свидетельствуют о возрастании значимости сетей как основного вида социотехнической организации. Доступность новых информационных технологий способствует этому росту, хотя и не обуславливает его (Arquilla, Ronfeldt, 1997; Castells, 1996; Held et al., 1999).
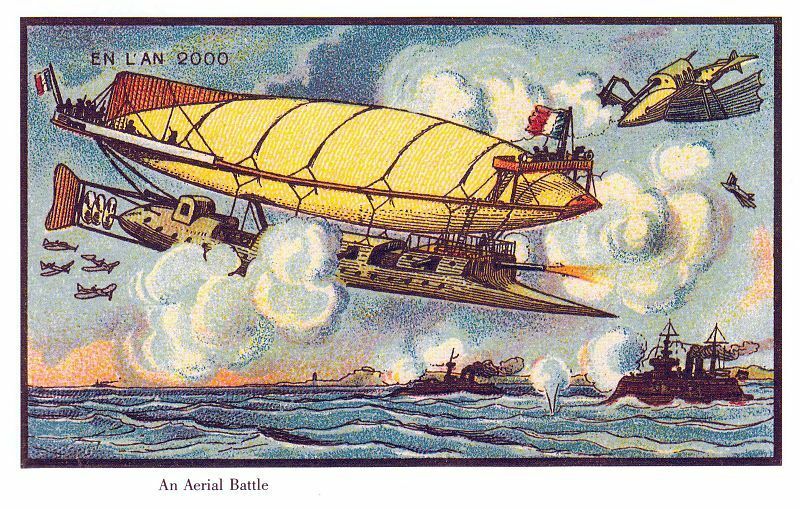
SAGE: первая компьютеризированная система управления
Впервые цифровые компьютеры стали всерьёз использовать для управления — а не для расчётов, для которых они и были изобретены — во время Холодной войны. Когда Советский Союз провёл испытания ядерного оружия в 1949 году, куда раньше, чем предполагали аналитики американской разведки, встревоженные Военно-воздушные силы США занялись поиском решения проблемы, которую прежде удавалось игнорировать — проблемы безопасности воздушного пространства континентальной территории США.
Они нашли несколько решений. Все они были сложны в реализации из-за проблем с коммуникацией и управлением. Задача военных была такая: распознать, а затем отследить приближающуюся атаку советских бомбардировщиков и принять скоординированные ответные меры с участием сотни или даже тысячи самолётов. «Ответ» в те годы предполагал перехват, который выполняли пилотируемые истребители. Из-за ограничений радиолокации и скорости реактивных бомбардировщиков первого поколения ответный удар можно было подготовить только через несколько часов после объявления тревоги. Поэтому одно из решений было направлено на то, чтобы заметить советские самолёты как можно раньше. Около 305 000 добровольцев — служба воздушного наблюдения (Ground Observer Corps) — работали на наблюдательных вышках вдоль всей границы с Канадой и сообщали об увиденном по радио и телефону. Второе решение заключалось в автоматизации некоторых вычислительных и коммуникативных задач существующей системы ПВО с использованием аналоговых устройств.
Третье, куда более радикальное решение предложили инженеры из MIT. Они придумали использовать электронные цифровые компьютеры для обработки сигналов радара, отслеживания приближающихся самолётов, расчёта траектории перехвата и координации ответных действий на континенте. Идея такой системы предполагала, что компьютеры смогут посылать оперативные команды на автопилоты истребителей-перехватчиков и даже контролировать запуск ракет «воздух-воздух» (последняя возможность никогда не была использована). Все функции должны были работать в реальном времени; иными словами, компьютер должен был работать со скоростью военного аппарата (реактивного самолета и т.д.), которым он бы управлял.
В 1950-м году, когда идея была предложена, ни один цифровой компьютер не мог совершать такие вычисления с нужной скоростью. Более того, электронные цифровые компьютеры были порядочно дорогими, ненадёжными и сложными в обращении. Они часто ломались, несмотря на тысячи устойчивых к выгоранию вакуумных ламп. В своей книге «Замкнутый мир» (Edwards, 1996) я писал, что из-за этих проблем выбор в пользу компьютеризированной системы управления был по меньшей мере неочевидным. Почему же SAGE в итоге добилась успеха?
Благодаря колоссальным вливаниям правительственных денег технические проблемы получилось решить. Социальные проблемы были более сложными — например, сопротивление некоторых элементов ВВС США системе, отнимающей управление у пилотов в пользу компьютеров. Но и с ними удалось справиться — со временем. В 1958-61 годы, после десяти лет исследований и разработок, ВВС развернули систему SAGE на всей территории США. На сегодняшний день она остаётся самым дорогостоящим компьютерным проектом. IBM, построившая 56 компьютеров на двойных вакуумных лампах, получила 500 миллионов долларов от SAGE. Это был самый крупный контракт 1950х, заключённый с одним поставщиком. Возможно, это стало одной из главных причин доминирования IBM на мировом компьютерном рынке к началу 1960-х. Проект, пусть и не прибыльный сам по себе, предоставил IBM доступ к огромному количеству передовых исследований MIT и других университетов. Результаты многих из этих исследований стали частью коммерческих разработок компании раньше, чем были созданы компьютеры SAGE.
SAGE состояла из 23 региональных секторов. Компьютеры в Центрах Управления каждого из секторов были соединены с соседними секторами, чтобы отслеживать перемещения самолётов. Модемы позволяли передавать информацию с радаров на отдалённых точках и обмениваться компьютерными данными. Таким образом, в простейшем смысле SAGE представляла собой не только первую крупную компьютеризированную систему управления, но и первую компьютерную сеть. И всё же она была создана именно для обеспечения иерархического, централизованного управления ПВО.
В соответствии с закономерностью, характерной для развития инфраструктуры (Bowker, Star, 1999), SAGE пользовалась опытом существующих инфраструктур — арендовала коммерческие телефонные линии для связи между секторами. После внедрения SAGE появилось множество других проектов с аналогичными функциями. В начале 1960х компьютеры приобрели почти непреодолимую привлекательность, намного превосходящую их реальные возможности. Например, когда появились межконтинентальные баллистические ракеты, система SAGE оказалась морально устаревшей. Это случилось незадолго до запуска этой системы. SAGE была не очень стабильной, могла и не сработать, а совместное размещение Центров Управления со стратегическими базами военно-воздушного командования делало их удобной мишенью.
Несмотря на очевидные проблемы, в следующем десятилетии было создано множество компьютеризированных систем управления: система раннего обнаружения баллистических ракет (Ballistic Missile Early Warning System), система управления стратегическим командованием военно-воздушных сил (the Strategic Air Command Control System) и автоматизированная система управления противовоздушной обороной НАТО (NADGE). Самой амбициозной из них была глобальная система оперативного управления (WWMCCS, Worldwide Military Command and Control System), разработанная для автоматизации планирования широкомасштабных военных операций в любой точке мира [15].
Короче говоря, компьютерные системы управления стали чем-то вроде Священного Грааля для американских вооруженных сил. В 1969 генерал Уильям Уэстморленд, бывший главнокомандующий вооруженными силами США во Вьетнаме, назвал это «автоматическим полем боя». Автоматические системы, развёрнутые в ходе войны в Персидском Заливе и последнего конфликта в Косово\Сербии, пусть и не так совершенны и точны, как было заявлено, но почти воплотили в жизнь представление Уэстморленда.
Системы управления ядерными силами времён Холодной войны (все они созданы по образцу SAGE), были попыткой справиться одновременно с требованиями стратегии, политики, технологии и культуры. После появления межконтинентальных баллистических ракет время предупреждения об атаке противника сократилось с нескольких часов до считанных минут, и это был большой вызов для командных структур. Традиционная иерархическая цепочка приказов была преобразована в «плоский», автоматизированный, но и сохраняющий иерархичность процесс управления. Машина выбирала из набора заранее запрограммированных планов для различных «непредвиденных обстоятельств». Военные стратеги всё больше соединяли компьютеризированные системы предупреждения и системы нанесения удара, стремясь сократить временные задержки, присущие человеческому управлению. И хотя окончательное решение о запуске ядерного оружия оставалось в руках человека, опасения по поводу атомной войны, инициированной машиной, были далеко не безосновательными (Borning, 1987). Советские и американские системы оповещения реагировали друг на друга крайне чувствительно. Это приводило к эскалации конфликтов, и даже взвешенные аналитики не исключали возможности «ядерного Сараево» (Bracken, 1983).
Впервые цифровые компьютеры стали всерьёз использовать для управления — а не для расчётов, для которых они и были изобретены — во время Холодной войны. Когда Советский Союз провёл испытания ядерного оружия в 1949 году, куда раньше, чем предполагали аналитики американской разведки, встревоженные Военно-воздушные силы США занялись поиском решения проблемы, которую прежде удавалось игнорировать — проблемы безопасности воздушного пространства континентальной территории США.
Они нашли несколько решений. Все они были сложны в реализации из-за проблем с коммуникацией и управлением. Задача военных была такая: распознать, а затем отследить приближающуюся атаку советских бомбардировщиков и принять скоординированные ответные меры с участием сотни или даже тысячи самолётов. «Ответ» в те годы предполагал перехват, который выполняли пилотируемые истребители. Из-за ограничений радиолокации и скорости реактивных бомбардировщиков первого поколения ответный удар можно было подготовить только через несколько часов после объявления тревоги. Поэтому одно из решений было направлено на то, чтобы заметить советские самолёты как можно раньше. Около 305 000 добровольцев — служба воздушного наблюдения (Ground Observer Corps) — работали на наблюдательных вышках вдоль всей границы с Канадой и сообщали об увиденном по радио и телефону. Второе решение заключалось в автоматизации некоторых вычислительных и коммуникативных задач существующей системы ПВО с использованием аналоговых устройств.
Третье, куда более радикальное решение предложили инженеры из MIT. Они придумали использовать электронные цифровые компьютеры для обработки сигналов радара, отслеживания приближающихся самолётов, расчёта траектории перехвата и координации ответных действий на континенте. Идея такой системы предполагала, что компьютеры смогут посылать оперативные команды на автопилоты истребителей-перехватчиков и даже контролировать запуск ракет «воздух-воздух» (последняя возможность никогда не была использована). Все функции должны были работать в реальном времени; иными словами, компьютер должен был работать со скоростью военного аппарата (реактивного самолета и т.д.), которым он бы управлял.
В 1950-м году, когда идея была предложена, ни один цифровой компьютер не мог совершать такие вычисления с нужной скоростью. Более того, электронные цифровые компьютеры были порядочно дорогими, ненадёжными и сложными в обращении. Они часто ломались, несмотря на тысячи устойчивых к выгоранию вакуумных ламп. В своей книге «Замкнутый мир» (Edwards, 1996) я писал, что из-за этих проблем выбор в пользу компьютеризированной системы управления был по меньшей мере неочевидным. Почему же SAGE в итоге добилась успеха?
Благодаря колоссальным вливаниям правительственных денег технические проблемы получилось решить. Социальные проблемы были более сложными — например, сопротивление некоторых элементов ВВС США системе, отнимающей управление у пилотов в пользу компьютеров. Но и с ними удалось справиться — со временем. В 1958-61 годы, после десяти лет исследований и разработок, ВВС развернули систему SAGE на всей территории США. На сегодняшний день она остаётся самым дорогостоящим компьютерным проектом. IBM, построившая 56 компьютеров на двойных вакуумных лампах, получила 500 миллионов долларов от SAGE. Это был самый крупный контракт 1950х, заключённый с одним поставщиком. Возможно, это стало одной из главных причин доминирования IBM на мировом компьютерном рынке к началу 1960-х. Проект, пусть и не прибыльный сам по себе, предоставил IBM доступ к огромному количеству передовых исследований MIT и других университетов. Результаты многих из этих исследований стали частью коммерческих разработок компании раньше, чем были созданы компьютеры SAGE.
SAGE состояла из 23 региональных секторов. Компьютеры в Центрах Управления каждого из секторов были соединены с соседними секторами, чтобы отслеживать перемещения самолётов. Модемы позволяли передавать информацию с радаров на отдалённых точках и обмениваться компьютерными данными. Таким образом, в простейшем смысле SAGE представляла собой не только первую крупную компьютеризированную систему управления, но и первую компьютерную сеть. И всё же она была создана именно для обеспечения иерархического, централизованного управления ПВО.
В соответствии с закономерностью, характерной для развития инфраструктуры (Bowker, Star, 1999), SAGE пользовалась опытом существующих инфраструктур — арендовала коммерческие телефонные линии для связи между секторами. После внедрения SAGE появилось множество других проектов с аналогичными функциями. В начале 1960х компьютеры приобрели почти непреодолимую привлекательность, намного превосходящую их реальные возможности. Например, когда появились межконтинентальные баллистические ракеты, система SAGE оказалась морально устаревшей. Это случилось незадолго до запуска этой системы. SAGE была не очень стабильной, могла и не сработать, а совместное размещение Центров Управления со стратегическими базами военно-воздушного командования делало их удобной мишенью.
Несмотря на очевидные проблемы, в следующем десятилетии было создано множество компьютеризированных систем управления: система раннего обнаружения баллистических ракет (Ballistic Missile Early Warning System), система управления стратегическим командованием военно-воздушных сил (the Strategic Air Command Control System) и автоматизированная система управления противовоздушной обороной НАТО (NADGE). Самой амбициозной из них была глобальная система оперативного управления (WWMCCS, Worldwide Military Command and Control System), разработанная для автоматизации планирования широкомасштабных военных операций в любой точке мира [15].
Короче говоря, компьютерные системы управления стали чем-то вроде Священного Грааля для американских вооруженных сил. В 1969 генерал Уильям Уэстморленд, бывший главнокомандующий вооруженными силами США во Вьетнаме, назвал это «автоматическим полем боя». Автоматические системы, развёрнутые в ходе войны в Персидском Заливе и последнего конфликта в Косово\Сербии, пусть и не так совершенны и точны, как было заявлено, но почти воплотили в жизнь представление Уэстморленда.
Системы управления ядерными силами времён Холодной войны (все они созданы по образцу SAGE), были попыткой справиться одновременно с требованиями стратегии, политики, технологии и культуры. После появления межконтинентальных баллистических ракет время предупреждения об атаке противника сократилось с нескольких часов до считанных минут, и это был большой вызов для командных структур. Традиционная иерархическая цепочка приказов была преобразована в «плоский», автоматизированный, но и сохраняющий иерархичность процесс управления. Машина выбирала из набора заранее запрограммированных планов для различных «непредвиденных обстоятельств». Военные стратеги всё больше соединяли компьютеризированные системы предупреждения и системы нанесения удара, стремясь сократить временные задержки, присущие человеческому управлению. И хотя окончательное решение о запуске ядерного оружия оставалось в руках человека, опасения по поводу атомной войны, инициированной машиной, были далеко не безосновательными (Borning, 1987). Советские и американские системы оповещения реагировали друг на друга крайне чувствительно. Это приводило к эскалации конфликтов, и даже взвешенные аналитики не исключали возможности «ядерного Сараево» (Bracken, 1983).
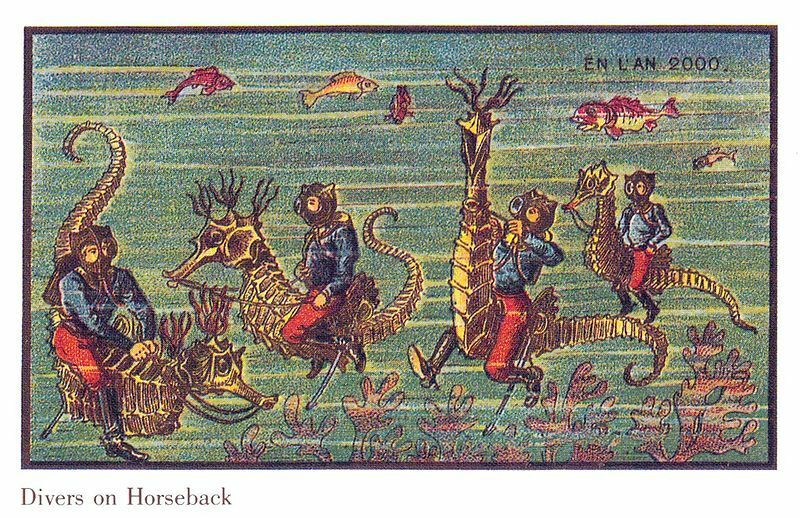
Совмещая уровни: «взаимная настройка»
В «Замкнутом мире» я попытался предложить объяснение этим событиям. Мне кажется, они находятся на пересечении масштабов. С одной стороны — макро- и мезо-масштабы и силы (forces) стратегии, политики, истории и культуры. С другой стороны — микро- и мезо-масштабы миров отдельных изобретателей, рабочих групп и учреждений.
Процесс, который я называю «взаимной настройкой», представляет собой взаимоотношения между небольшими группами гражданских инженеров и учёных с их военными спонсорами — крупными учреждениями, цели которых связаны с требованиями макро- и мезо-масштабов, о которых я писал выше [16].
В начале Холодной войны большая часть денег на исследования и разработки поступала прямо или косвенно от военных ведомств. Зачастую эти ведомства не понимали, что именно им нужно. Они могли обозначить основные цели, но не новые способы их достижения. Вообще, военные институты той эпохи были очень консервативны и с подозрением относились к новшествам. Их тревожило, что «высоколобые» учёные посягают на их традиционные обязанности. В то же время, Вторую Мировую войну повсеместно считали «войной учёных» (Baxter, 1948). После изобретения радара, атомной бомбы, ракет, реактивных самолётов и компьютеров, — всё это придумали во время войны или в связи с ней, — американское общество наделяло учёных и инженеров почти нечеловеческими способностями. Так, после советских ядерных испытаний 1949 года ВВС обратились к ним за помощью.
Здесь, как и в других случаях времён Холодной войны, ВВС поставили задачу — защита воздушного пространства США — и предложили набор существующего вооружения, например, самолёты. В то время наземное управление самолётами с помощью радаров только-только входило в культуру «cowboy pilot», унаследованную ещё от Первой Мировой [17]. У ВВС не было идеи о том, как организовать ПВО масштабах страны. Многие даже не верили, что это выполнимая задача (см. Edwards, 1996, Chapter 3). Фактически основной стратегией того периода был упреждающий удар — в этом сценарии для оборонительных действий не было места, поскольку предполагалось, что советские бомбардировщики будут уничтожены ещё до взлёта (Herken, 1983).
С другой стороны, инженеры MIT, создавшие SAGE, рассматривали ПВО как одну из проблем системного управления, которую возможно решить с помощью соответствующего оборудования. У многих из них был военный опыт (связанный иногда с боевыми действиями), но они не были офицерами ВВС и потому смотрели на ситуацию иначе. Все детали головоломки «система ПВО» уже были готовы, за исключением недостроенного компьютера Whirlwind, который инженеры по другим причинам уже начали собирать. Создание этой машины стало главной их целью. Достаточно быстрый и надёжный компьютер решил бы проблемы ВВС, а заодно пригодился бы и самим инженерам.
В 1948 году Джей Форрестер и Роберт Эверетт, главные инженеры SAGE, представили глобальный и убедительный проект будущего компьютеров. Согласно проекту, компьютеры будут практически во всех военных сферах, от разработок и снабжения оружием до управления артиллерийским огнём, полётами, противоракетной обороной и центральной системой командования. Форрестер и Эверетт разработали план 15-летней программы стоимостью 2 миллиарда долларов, которая должна была привести к созданию компьютеризированных систем командного управления в реальном времени, составили график разработки и подробный бюджет (Redmond, Smith, 1980).
Возникает вопрос: почему гражданские инженеры тратили время на разработку общей концепции системы для военных, о которой те даже не спрашивали и к созданию которой в тот момент было сложно даже подступиться? Чтобы ответить на этот вопрос, надо иметь в виду несколько масштабов: истории самих Форрестера и Эверетта и их интересы, их отношения с предусмотрительными специалистами из Центра специальных устройств ВМС США (Navy Special Devices Center), взаимодействия с другими представителями ВМС, считавшими компьютер Whirlwind слишком дорогим для них, и реакцию MIT на кризис финансирования.
Эта многоуровневая и многомерная история показывает, почему «cowboy pilots» приняли на вооружение компьютеризированную инфраструктуру управления полётами, которую прежде считали помехой и предательством боевого духа и ответственности военного. Гражданские инженеры направляли ВВС в сторону идеи системы, включавшей в себя компьютеризированное управление. В то же время ВВС направляли инженеров на решение задач управления очень большого масштаба, в условиях реального времени и с высокой надёжностью. Инженеры SAGE были системными архитекторами в хьюзовском смысле: они воспринимали проблемы управления как реверсивный выступ и разработали универсальное решение, которые можно было применять ad infinitum (до бесконечности – лат.) для других задач управления. Причины появления этого конкретного реверсивного выступа были одновременно техническими, политическими и культурными. В конечном итоге геополитическая стратегия США диктовала темпы работы, масштабность и надёжность SAGE. В то же время несколько инженеров, увлечённых появившимися тогда цифровыми компьютерами, убедили ВВС в том, что эти компьютеры могут стать решением проблемы. В результате этого взаимодействия появилась глобальная инфраструктура управления и контроля, основанная на цифровых компьютерах.
Я утверждаю, что концепт взаимной настройки (mutual orientation) достаточно широко характеризует взаимоотношения между учёными, инженерами и их военными спонсорами во время Холодной войны. Военные бюджеты были велики, и спонсорам не нужно было в ручном режиме руководить исследованиями. Этого было достаточно, чтобы силы учёных и инженеров были направлены на одну, общую проблемную область. Если хотя бы часть результатов оказывалась полезной для военных целей, этого было вполне достаточно, поскольку количество потраченных денег не имело большой роли. Даже такую косвенную и неочевидную ценность, как развитие высокотехнологичной экономики (также известной как «оборонно-промышленная база»), можно считать полезным побочным результатом высоких расходов на исследования и разработки в рамках общей стратегии военных. Это не было спланировано.
Военные спонсоры, в свою очередь, полагались на учёных и инженеров в вопросах применения новых технологий. Для учёных грантовые заявки нередко были своего рода выдумкой — авторы заявок притворялись, что их интересуют военные вопросы. Спонсоры же относились к этим текстам довольно серьёзно. Это привело к странной (и часто умышленной) близорукости американских учёных и инженеров, которые сидели на диете из военных денег, но утверждали, что их исследования не имеют ничего общего с практическими военными задачами. Они могли быть правы на микро-уровне, но ошибались в отношении мезо-масштабного процесса, участниками которого стали.
В «Замкнутом мире» я попытался предложить объяснение этим событиям. Мне кажется, они находятся на пересечении масштабов. С одной стороны — макро- и мезо-масштабы и силы (forces) стратегии, политики, истории и культуры. С другой стороны — микро- и мезо-масштабы миров отдельных изобретателей, рабочих групп и учреждений.
Процесс, который я называю «взаимной настройкой», представляет собой взаимоотношения между небольшими группами гражданских инженеров и учёных с их военными спонсорами — крупными учреждениями, цели которых связаны с требованиями макро- и мезо-масштабов, о которых я писал выше [16].
В начале Холодной войны большая часть денег на исследования и разработки поступала прямо или косвенно от военных ведомств. Зачастую эти ведомства не понимали, что именно им нужно. Они могли обозначить основные цели, но не новые способы их достижения. Вообще, военные институты той эпохи были очень консервативны и с подозрением относились к новшествам. Их тревожило, что «высоколобые» учёные посягают на их традиционные обязанности. В то же время, Вторую Мировую войну повсеместно считали «войной учёных» (Baxter, 1948). После изобретения радара, атомной бомбы, ракет, реактивных самолётов и компьютеров, — всё это придумали во время войны или в связи с ней, — американское общество наделяло учёных и инженеров почти нечеловеческими способностями. Так, после советских ядерных испытаний 1949 года ВВС обратились к ним за помощью.
Здесь, как и в других случаях времён Холодной войны, ВВС поставили задачу — защита воздушного пространства США — и предложили набор существующего вооружения, например, самолёты. В то время наземное управление самолётами с помощью радаров только-только входило в культуру «cowboy pilot», унаследованную ещё от Первой Мировой [17]. У ВВС не было идеи о том, как организовать ПВО масштабах страны. Многие даже не верили, что это выполнимая задача (см. Edwards, 1996, Chapter 3). Фактически основной стратегией того периода был упреждающий удар — в этом сценарии для оборонительных действий не было места, поскольку предполагалось, что советские бомбардировщики будут уничтожены ещё до взлёта (Herken, 1983).
С другой стороны, инженеры MIT, создавшие SAGE, рассматривали ПВО как одну из проблем системного управления, которую возможно решить с помощью соответствующего оборудования. У многих из них был военный опыт (связанный иногда с боевыми действиями), но они не были офицерами ВВС и потому смотрели на ситуацию иначе. Все детали головоломки «система ПВО» уже были готовы, за исключением недостроенного компьютера Whirlwind, который инженеры по другим причинам уже начали собирать. Создание этой машины стало главной их целью. Достаточно быстрый и надёжный компьютер решил бы проблемы ВВС, а заодно пригодился бы и самим инженерам.
В 1948 году Джей Форрестер и Роберт Эверетт, главные инженеры SAGE, представили глобальный и убедительный проект будущего компьютеров. Согласно проекту, компьютеры будут практически во всех военных сферах, от разработок и снабжения оружием до управления артиллерийским огнём, полётами, противоракетной обороной и центральной системой командования. Форрестер и Эверетт разработали план 15-летней программы стоимостью 2 миллиарда долларов, которая должна была привести к созданию компьютеризированных систем командного управления в реальном времени, составили график разработки и подробный бюджет (Redmond, Smith, 1980).
Возникает вопрос: почему гражданские инженеры тратили время на разработку общей концепции системы для военных, о которой те даже не спрашивали и к созданию которой в тот момент было сложно даже подступиться? Чтобы ответить на этот вопрос, надо иметь в виду несколько масштабов: истории самих Форрестера и Эверетта и их интересы, их отношения с предусмотрительными специалистами из Центра специальных устройств ВМС США (Navy Special Devices Center), взаимодействия с другими представителями ВМС, считавшими компьютер Whirlwind слишком дорогим для них, и реакцию MIT на кризис финансирования.
Эта многоуровневая и многомерная история показывает, почему «cowboy pilots» приняли на вооружение компьютеризированную инфраструктуру управления полётами, которую прежде считали помехой и предательством боевого духа и ответственности военного. Гражданские инженеры направляли ВВС в сторону идеи системы, включавшей в себя компьютеризированное управление. В то же время ВВС направляли инженеров на решение задач управления очень большого масштаба, в условиях реального времени и с высокой надёжностью. Инженеры SAGE были системными архитекторами в хьюзовском смысле: они воспринимали проблемы управления как реверсивный выступ и разработали универсальное решение, которые можно было применять ad infinitum (до бесконечности – лат.) для других задач управления. Причины появления этого конкретного реверсивного выступа были одновременно техническими, политическими и культурными. В конечном итоге геополитическая стратегия США диктовала темпы работы, масштабность и надёжность SAGE. В то же время несколько инженеров, увлечённых появившимися тогда цифровыми компьютерами, убедили ВВС в том, что эти компьютеры могут стать решением проблемы. В результате этого взаимодействия появилась глобальная инфраструктура управления и контроля, основанная на цифровых компьютерах.
Я утверждаю, что концепт взаимной настройки (mutual orientation) достаточно широко характеризует взаимоотношения между учёными, инженерами и их военными спонсорами во время Холодной войны. Военные бюджеты были велики, и спонсорам не нужно было в ручном режиме руководить исследованиями. Этого было достаточно, чтобы силы учёных и инженеров были направлены на одну, общую проблемную область. Если хотя бы часть результатов оказывалась полезной для военных целей, этого было вполне достаточно, поскольку количество потраченных денег не имело большой роли. Даже такую косвенную и неочевидную ценность, как развитие высокотехнологичной экономики (также известной как «оборонно-промышленная база»), можно считать полезным побочным результатом высоких расходов на исследования и разработки в рамках общей стратегии военных. Это не было спланировано.
Военные спонсоры, в свою очередь, полагались на учёных и инженеров в вопросах применения новых технологий. Для учёных грантовые заявки нередко были своего рода выдумкой — авторы заявок притворялись, что их интересуют военные вопросы. Спонсоры же относились к этим текстам довольно серьёзно. Это привело к странной (и часто умышленной) близорукости американских учёных и инженеров, которые сидели на диете из военных денег, но утверждали, что их исследования не имеют ничего общего с практическими военными задачами. Они могли быть правы на микро-уровне, но ошибались в отношении мезо-масштабного процесса, участниками которого стали.
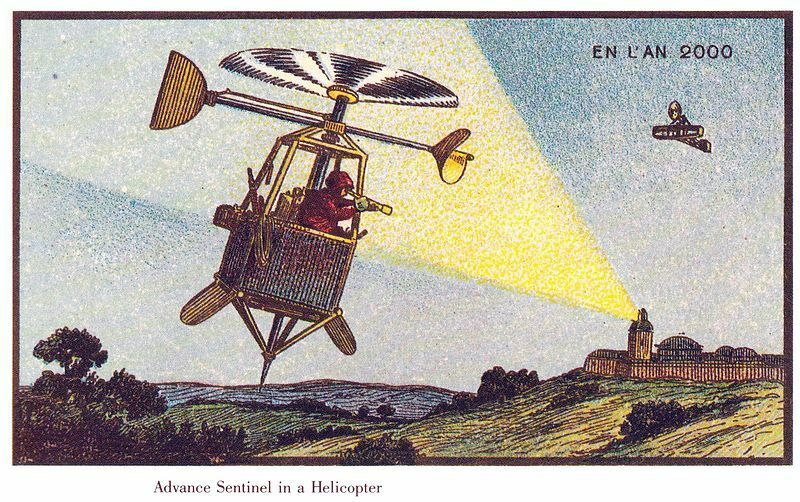
История ARPANET как история взаимной настройки
Другой пример аналогичного процесса можно увидеть в случае ARPANET, сети, которая имеет два варианта истории. Версия, описанная выше, подразумевает, что ARPA хотели просто наладить связь между своими исследовательскими центрами и протестировать некоторые интересные технологические концепции. Важная часть этой легенды — роль анархически организованной группы, состоящей по преимуществу из аспирантов. Они создали протоколы для передачи сообщений внутри ARPANET.
Неиерархический процесс разработки «запроса комментариев» (RFC), в которых обсуждались эти протоколы, не имеет ничего общего с иерархической, управляемой техническими условиями процедурой, свойственной военным операциям. Действительно, как будто бы меритократическая, а на деле эгалитарная культура строителей протокола ARPANET стала частью либертарианской мифологии интернет-культуры [18]. Специалисты по компьютерным технологиям часто рассказывают именно эту версию истории ARPANET (Hafner, 1996; Norberg, O'Neill, 1996). Заметим, что это история микро-уровня, как в смысле времени, так и в смысле социальной организации. Ничтожный в смысле количества сотрудников персонал APRA продвигал ARPANET, но делал это как сторонник идеи (а не как военные бюрократы). Со своей стороны, учёные разрабатывали пакетную коммутацию исключительно для собственных целей и создали для этого свои неофициальные процедуры, такие как RFC [19]. В некоторых воспоминаниях есть узнаваемый радостный тон, ощущение, что ARPA стояла между компьютерными учёными и военными, позволяя исследователям делать то, что им хочется, скрываясь за дымовой завесой полезности для отвода глаз высокопоставленных лиц Пентагона.
На мезо-масштабе история создания ARPANET будет выглядеть иначе. С этой точки зрения, движущей силой проекта были американские военные ведомства, которые искали систему управления, способную выдержать попадание ракеты с ядерной боеголовкой (см. как один из примеров широко известную работу Sterling, 1993). Эта версия истории начинается в 1964 году с серии исследований RAND-corporation (Research and Development, американский центр стратегических разработок) в сфере военных коммуникаций (Paul Baran et al., 1964). Один из проектов RAND — сеть с коммутацией пакетов. Электронные сообщения должны были быть разделены на маленькие части, пакеты, и так, по частям, отправлены по сети тесно взаимосвязанных узлов (маршрутизаторов). Исходя из загрузки сети, каждый узел независимо определял бы маршрутизацию для каждого пакета. В крайнем случае пакеты могли пройти через сеть по разным маршрутам. На стороне адресата сообщение должно было быть собрано вновь.
Коммутация пакетов нужна была для того, чтобы уничтожение некоторых (или даже многих) узлов сети не помешало бы сообщению достичь адресата — в отличие от телефонной сети, работавшей по принципу коммутации каналов. В телефонной сети связь была бы прервана после разрушения любого узла. Таким образом, коммутация пакетов — продолжение ядерной стратегии с её высоким уровнем ожидаемых разрушений. В этой второй истории ARPANET исследования RAND напрямую включены в проект ARPANET. ARPA строили сеть с коммутацией пакетов для цифровой военной связи. Это была военная разработка — вне зависимости от того, что думали учёные.
Другой пример аналогичного процесса можно увидеть в случае ARPANET, сети, которая имеет два варианта истории. Версия, описанная выше, подразумевает, что ARPA хотели просто наладить связь между своими исследовательскими центрами и протестировать некоторые интересные технологические концепции. Важная часть этой легенды — роль анархически организованной группы, состоящей по преимуществу из аспирантов. Они создали протоколы для передачи сообщений внутри ARPANET.
Неиерархический процесс разработки «запроса комментариев» (RFC), в которых обсуждались эти протоколы, не имеет ничего общего с иерархической, управляемой техническими условиями процедурой, свойственной военным операциям. Действительно, как будто бы меритократическая, а на деле эгалитарная культура строителей протокола ARPANET стала частью либертарианской мифологии интернет-культуры [18]. Специалисты по компьютерным технологиям часто рассказывают именно эту версию истории ARPANET (Hafner, 1996; Norberg, O'Neill, 1996). Заметим, что это история микро-уровня, как в смысле времени, так и в смысле социальной организации. Ничтожный в смысле количества сотрудников персонал APRA продвигал ARPANET, но делал это как сторонник идеи (а не как военные бюрократы). Со своей стороны, учёные разрабатывали пакетную коммутацию исключительно для собственных целей и создали для этого свои неофициальные процедуры, такие как RFC [19]. В некоторых воспоминаниях есть узнаваемый радостный тон, ощущение, что ARPA стояла между компьютерными учёными и военными, позволяя исследователям делать то, что им хочется, скрываясь за дымовой завесой полезности для отвода глаз высокопоставленных лиц Пентагона.
На мезо-масштабе история создания ARPANET будет выглядеть иначе. С этой точки зрения, движущей силой проекта были американские военные ведомства, которые искали систему управления, способную выдержать попадание ракеты с ядерной боеголовкой (см. как один из примеров широко известную работу Sterling, 1993). Эта версия истории начинается в 1964 году с серии исследований RAND-corporation (Research and Development, американский центр стратегических разработок) в сфере военных коммуникаций (Paul Baran et al., 1964). Один из проектов RAND — сеть с коммутацией пакетов. Электронные сообщения должны были быть разделены на маленькие части, пакеты, и так, по частям, отправлены по сети тесно взаимосвязанных узлов (маршрутизаторов). Исходя из загрузки сети, каждый узел независимо определял бы маршрутизацию для каждого пакета. В крайнем случае пакеты могли пройти через сеть по разным маршрутам. На стороне адресата сообщение должно было быть собрано вновь.
Коммутация пакетов нужна была для того, чтобы уничтожение некоторых (или даже многих) узлов сети не помешало бы сообщению достичь адресата — в отличие от телефонной сети, работавшей по принципу коммутации каналов. В телефонной сети связь была бы прервана после разрушения любого узла. Таким образом, коммутация пакетов — продолжение ядерной стратегии с её высоким уровнем ожидаемых разрушений. В этой второй истории ARPANET исследования RAND напрямую включены в проект ARPANET. ARPA строили сеть с коммутацией пакетов для цифровой военной связи. Это была военная разработка — вне зависимости от того, что думали учёные.

Многоуровневое исследование истории ARPANET
Заманчиво попытаться сделать выбор между мезо-, макро- и микро- масштабами исследования, чтобы понять, какая версия этой истории верна. Социальный конструктивист обратился бы к микро-масштабу и сказал, что если мы смотрим на акторов, макро-масштаб не имеет значения. Исследователь модерности, наоборот, назвал бы «истинной» мезо-уровневую историю, а микро-масштаб — неактуальным или иллюзорным. С этой точки зрения история ARPANET была бы классическим примером модерна — большие силы и системы подавляют отдельных людей и спонтанно организованные группы. Специалисты по компьютерным технологиям и журналисты часто используют функциональный подход и макро-масштаб: так ARPANET становится одним из этапов непрерывного развития более совершенных и быстрых информационных инфраструктур
Концепция взаимной настройки позволяет нам перемещаться с одного масшаба на другой и признать правдивыми все три истории. На микро-уровне учёные редко задумывались о проблемах военных коммуникаций; у них были собственные мотивы выполнять свою работу. Однако на мезо-масштабе времени и социальной организации сеть военной связи с коммутацией пакетов была конкретной целью военных ведомств (Abbate, 1999). На недавней конференции некогда влиятельный представитель ARPA сказал мне: «Мы прекрасно понимали, что делали. Мы строили жизнеспособную систему управления для ядерной войны» [20]. И действительно, через несколько лет (и при серьёзной поддержке ARPA) сети с коммутацией пакетов стали повсеместно использоваться военными ведомствами (Norberg, O'Neill 1996).
На макро-уровне ARPANET оказывается в одном ряду с другими экспериментами по созданию компьютерных сетей; некоторые из них (например, сеть Дональда Дейвиса в Национальной физической лаборатории Великобритании образца 1967 года) имели другие цели (Abbate, 1999). Или в ином ряду — в большой истории информационных и коммуникационных инфраструктур (Rowland, 1997; Standage, 1998). На этом масштабе поддержкой военных можно объяснить не столько особенную структуру ARPANET, сколько скорость её роста в сравнении с другими сетями.
Последующая история интернета подтверждает все три эти истории.
На микро-уровне, как я писал выше, пользователи превратили интернет в средство коммуникации общего назначения. Хакеры, работавшие по преимуществу бесплатно и без чёткой цели, зато изобретательно, сыграли заметную роль в развитии интернета. Легенда об интернет-культуре как о либертарианской меритократии — «в интернете никто не знает, что вы собака [21]» — это отчасти легенда, а отчасти и правда. Своим ошеломляющим ростом после 1993 года Всемирная Паутина была обязана частным интересам как отдельно взятых людей, так и малых групп. Техническое обеспечение для создания веб-сайтов и поиска (гипертекстовый протокол передачи данных HTTP, браузеры Mosaic и Netscape и т.д.) было бесплатным и открытым. Моделью для HTTP стала Рабочая сетевая группа (Network Working Group), которая разрабатывала интернет-протоколы и управляла ими.
На мезо-масштабе цифровые системы управления с коммутацией пакетов получили широкое признание у военных — отчасти благодаря миссионерам из ARPA (Norberg, O'Neill, 1996; Reed et al., 1990; Van Atta et al., 1991). «Автоматическое поле боя», о котором говорил Уэстморленд, продолжают создавать и сегодня. На конференции Президентской Комиссии по защите критически важной инфраструктуры в Стэнфордском университете в 1997 году генерал ВВС заявил: «От создания круглосуточной системы слежения и переброски вооружений в любую точку планеты нас отделяет всего два года». Если взять другой мезо-масштаб, внедрение интернета в корпорациях и появление электронной коммерции, в особенности, порнографии — это главные причины превращения интернета из просто любопытной штуки в настоящую глобальную инфраструктуру [22].
На макро-уровне создание сетей можно рассматривать как ответ на проблему управления, как у Бенигера. Взрыв популярности интернета конца 1980х не случился бы, не будь другого фактора, не связанного с ARPANET — без распространения персональных компьютеров в мире бизнеса. Джин Роклин и Джеймс Кортада утверждали, что сначала отдельные сотрудники начали пользоваться настольными компьютерами, и только потом корпорации занялись их централизованным внедрением. Это привело к децентрализации данных и, следовательно, власти внутри корпораций. А объединение этих многочисленных машин в сеть было попыткой восстановить централизованное управление или хотя бы координацию (Cortada, 1996; Rochlin, 1997). До конца 1980-х большая часть корпоративных сетей строилась без расчёта на подключение к интернету. Тем не менее, их легко было подключить, поскольку обычно использовались одни и те же протоколы, и когда интернет начал набирать популярность, тысячи компьютеров можно было подключить почти мгновенно. Эта версия истории рассматривает подключённость и контроль как функциональные направления экономической системы в целом.
А ещё на макро-масштабе мы можем наблюдать фундаментальный переход, который часто связывают с концом модерности и приходом постмодернизма. Распределённая архитектура ARPANET, интернета и WWW, а также открытые процессы проектирования, ставшие их отличительной чертой, сделали возможными распределенные сети управления и власти — вместо централизованного управления, для нужд которого построили ARPANET.
Я уже упоминал, что интернет и другие компьютерные технологии сделали возможными «виртуальные инфраструктуры», которые можно создавать и разрушать посредством создания и разрушения каналов информации и управления (Edwards, 1998a). Эти виртуальные инфраструктуры являются основой того, что Кастельс (Castells, 1996) называет «сетевым обществом»: постмодернистский мир не «систем», а изменчивых созвездий акторов, имеющих самые разные масштабы и формы.
Заманчиво попытаться сделать выбор между мезо-, макро- и микро- масштабами исследования, чтобы понять, какая версия этой истории верна. Социальный конструктивист обратился бы к микро-масштабу и сказал, что если мы смотрим на акторов, макро-масштаб не имеет значения. Исследователь модерности, наоборот, назвал бы «истинной» мезо-уровневую историю, а микро-масштаб — неактуальным или иллюзорным. С этой точки зрения история ARPANET была бы классическим примером модерна — большие силы и системы подавляют отдельных людей и спонтанно организованные группы. Специалисты по компьютерным технологиям и журналисты часто используют функциональный подход и макро-масштаб: так ARPANET становится одним из этапов непрерывного развития более совершенных и быстрых информационных инфраструктур
Концепция взаимной настройки позволяет нам перемещаться с одного масшаба на другой и признать правдивыми все три истории. На микро-уровне учёные редко задумывались о проблемах военных коммуникаций; у них были собственные мотивы выполнять свою работу. Однако на мезо-масштабе времени и социальной организации сеть военной связи с коммутацией пакетов была конкретной целью военных ведомств (Abbate, 1999). На недавней конференции некогда влиятельный представитель ARPA сказал мне: «Мы прекрасно понимали, что делали. Мы строили жизнеспособную систему управления для ядерной войны» [20]. И действительно, через несколько лет (и при серьёзной поддержке ARPA) сети с коммутацией пакетов стали повсеместно использоваться военными ведомствами (Norberg, O'Neill 1996).
На макро-уровне ARPANET оказывается в одном ряду с другими экспериментами по созданию компьютерных сетей; некоторые из них (например, сеть Дональда Дейвиса в Национальной физической лаборатории Великобритании образца 1967 года) имели другие цели (Abbate, 1999). Или в ином ряду — в большой истории информационных и коммуникационных инфраструктур (Rowland, 1997; Standage, 1998). На этом масштабе поддержкой военных можно объяснить не столько особенную структуру ARPANET, сколько скорость её роста в сравнении с другими сетями.
Последующая история интернета подтверждает все три эти истории.
На микро-уровне, как я писал выше, пользователи превратили интернет в средство коммуникации общего назначения. Хакеры, работавшие по преимуществу бесплатно и без чёткой цели, зато изобретательно, сыграли заметную роль в развитии интернета. Легенда об интернет-культуре как о либертарианской меритократии — «в интернете никто не знает, что вы собака [21]» — это отчасти легенда, а отчасти и правда. Своим ошеломляющим ростом после 1993 года Всемирная Паутина была обязана частным интересам как отдельно взятых людей, так и малых групп. Техническое обеспечение для создания веб-сайтов и поиска (гипертекстовый протокол передачи данных HTTP, браузеры Mosaic и Netscape и т.д.) было бесплатным и открытым. Моделью для HTTP стала Рабочая сетевая группа (Network Working Group), которая разрабатывала интернет-протоколы и управляла ими.
На мезо-масштабе цифровые системы управления с коммутацией пакетов получили широкое признание у военных — отчасти благодаря миссионерам из ARPA (Norberg, O'Neill, 1996; Reed et al., 1990; Van Atta et al., 1991). «Автоматическое поле боя», о котором говорил Уэстморленд, продолжают создавать и сегодня. На конференции Президентской Комиссии по защите критически важной инфраструктуры в Стэнфордском университете в 1997 году генерал ВВС заявил: «От создания круглосуточной системы слежения и переброски вооружений в любую точку планеты нас отделяет всего два года». Если взять другой мезо-масштаб, внедрение интернета в корпорациях и появление электронной коммерции, в особенности, порнографии — это главные причины превращения интернета из просто любопытной штуки в настоящую глобальную инфраструктуру [22].
На макро-уровне создание сетей можно рассматривать как ответ на проблему управления, как у Бенигера. Взрыв популярности интернета конца 1980х не случился бы, не будь другого фактора, не связанного с ARPANET — без распространения персональных компьютеров в мире бизнеса. Джин Роклин и Джеймс Кортада утверждали, что сначала отдельные сотрудники начали пользоваться настольными компьютерами, и только потом корпорации занялись их централизованным внедрением. Это привело к децентрализации данных и, следовательно, власти внутри корпораций. А объединение этих многочисленных машин в сеть было попыткой восстановить централизованное управление или хотя бы координацию (Cortada, 1996; Rochlin, 1997). До конца 1980-х большая часть корпоративных сетей строилась без расчёта на подключение к интернету. Тем не менее, их легко было подключить, поскольку обычно использовались одни и те же протоколы, и когда интернет начал набирать популярность, тысячи компьютеров можно было подключить почти мгновенно. Эта версия истории рассматривает подключённость и контроль как функциональные направления экономической системы в целом.
А ещё на макро-масштабе мы можем наблюдать фундаментальный переход, который часто связывают с концом модерности и приходом постмодернизма. Распределённая архитектура ARPANET, интернета и WWW, а также открытые процессы проектирования, ставшие их отличительной чертой, сделали возможными распределенные сети управления и власти — вместо централизованного управления, для нужд которого построили ARPANET.
Я уже упоминал, что интернет и другие компьютерные технологии сделали возможными «виртуальные инфраструктуры», которые можно создавать и разрушать посредством создания и разрушения каналов информации и управления (Edwards, 1998a). Эти виртуальные инфраструктуры являются основой того, что Кастельс (Castells, 1996) называет «сетевым обществом»: постмодернистский мир не «систем», а изменчивых созвездий акторов, имеющих самые разные масштабы и формы.
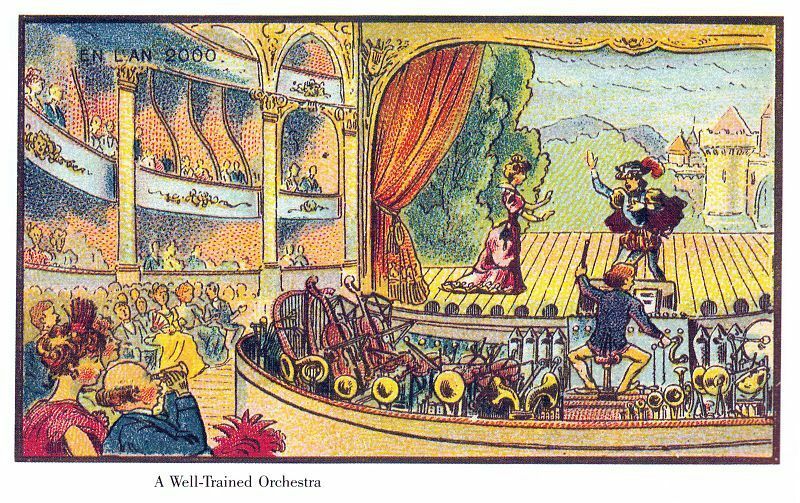
Заключение
В этой главе я постарался показать, что изучение инфраструктур на различных масштабах силы, времени и социальной организации дает разные картины того, как инфраструктуры развиваются и влияют на частную и социальную жизнь. Перспективы разных масштабов по-разному демонстрируют устойчивость «нововременной установки», которая разделяет природу, общество и технологию.
В исследованиях модерности технология — это основание для обобщённого «состояния» модерна (или постмодерна). То есть эти исследования смотрят на технологию на мезо-масштабе (Borgmann, 1984; Borgmann, 1992; Harvey, 1989). Такой анализ обычно работает с историческим масштабом времени, от десятилетий до столетий. Основными участниками развития инфраструктур оказываются крупные институты, типичная форма модерности. Инфраструктуры — большие, умножающие силу системы. Они соединяют людей и учреждения на больших масштабах пространства и времени. Поэтому инфраструктуры представляются образом модерности, то есть подчинения системам, бюрократиям, технике и всеобъемлющей власти. На мезо-уровне можно эмпирически наблюдать инерцию (momentum) инфраструктур. Это значит, что инфраструктуры не подконтрольны индивидам, группам и, возможно, любой форме социального действия, у них есть собственная власть. Инфраструктуры составляют рукотворную среду, отделяющую модерную жизнь от природы и конструирующую природу как товар, ресурс и объект романтической утопии. И усиливающую тем самым «нововременную установку».
Однако, на микро- и макро-масштабах видно другое.
Начнём c макро-масштаба. Сила — инфраструктуры и природа скорее пересекают друг друга, чем оказываются разделены. Инфраструктура создаёт системные уязвимости, а не отделяется от природы, и формирует отношения обмена между технологиями и природой посредством топлива и отходов — вплоть до антропогенного глобального изменения окружающей среды. Время и социальная организация — инфраструктуры это решения системных проблем потока для нужд промышленного капитализма: как производить, перевозить и продавать возрастающие объёмы товара и как управлять общей системой производства-дистрибуции-продажи (Хьюз мог бы назвать это максимизацией «коэффициента нагрузки» («loan factor»)). На этом масштабе структура и форма инфраструктур постоянно меняются. Отдельные технологии и системы менее важны, чем функции, которые они выполняют. Таким образом, инфраструктуры становятся постоянно меняющимся социальным ответом на проблемы материального производства, коммуникации, информации и управления, а не жёстким фоном для подавляющих технологий.
В микро-масштабной перспективе, то есть с точки зрения социального конструктивизма, особенно такого, который интересуется действиями пользователей, становится видно, что индивидуумы и небольшие, спонтанно появившиеся социальные группы формируют и меняют инфраструктуры, создавая собственную версию модерности. Они активно используют новые инфраструктуры. Время здесь тоже имеет значение — форма и функции инфраструктур смещаются и изменяются, хоть и по другим причинам, чем на макро-масштабе.
Если «быть модерным» – это «жить внутри взаимосвязанных инфраструктур», значит, одновременно это и «пребывать на пересечении различных масштабов силы, времени и социальной организации». Моя концепция «взаимной настройки» описывает один процесс, посредством которого акторы микро-уровня взаимодействуют с институтами мезо-уровня. Несомненно, другие такие процессы ждут своих исследователей. Что касается взаимодействия мезо- и макро- уровней, я придерживаюсь описания инфраструктур с точки зрения функций, а не технологий.
Этот многоуровневый эмпирический подход помогает увидеть проблемы с большинством концепций «модерности», поскольку эти концепции существуют в мезо-масштабной перспективе. Есть ли в самом деле одно состояние, которое можно описать как «модерное»? Или это современная форма идеализма, абстракция, которая соответствует реальности только в одном масштабе? Микроуровневые подходы, ориентированные на пользователя, предполагают, что власть и подчинение лишь частично описывают сложные (и активные) отношения акторов, технологий и институций. С другой стороны, макроуровневые подходы указывают на тенденцию к интеграции инфраструктур, чему способствуют и новые информационные технологии. Однако, эта интеграция ведёт, похоже, не только к укреплению модерной власти государств/корпораций, но и к децентрализованному, изменчивому «сетевому обществу», чьи постмодерные измерения только начинают быть видимыми.
Тогда, вероятно, «модерность» — в некоторой степени атрибут мезо-уровневого исследования, и противоядием может стать предложенный здесь многоуровневый подход.
Закончу «вполголоса», двумя важными отступлениями.
Во-первых, социально-конструктивистский подход, популярный нынче в STS, на практике неотличим от исследований на микро-масштабе (Misa, 1988; Misa, 1994). Такие исследования почти всегда обращаются к ранним фазам технологических изменений, когда технологии ещё новые, заметные и противоречивые. Именно тут действия отдельных людей и небольших групп наиболее важны. Например, вмешательство пользователя в проектирование сети тем менее значимо и эффективно, чем сильнее стандарты и чем больше инфраструктура. Классический аргумент социальных конструктивистов: если технология когда-то была противоречивой, она может стать такой снова. И/или что для поддержания любой технической системы нужны постоянные социальные усилия. Конструктивисты как правило скептически относятся к макромасштабным объяснениям, но иногда обращают внимание мезо-уровня.
Я считаю, что конструктивистские аргументы не только зависят от микро-масштаба, но и действуют благодаря редукции до микро-масштабов времени и социальной организации. звучит так себе, но это дословный перевод. к сожалению, в тексте есть три что ли места — вот таких, где не вполне понятно, что в точности хотел сказать поэт. их я перевожу дословно Это современная форма редукционизма, похожая на требование физиков объяснять все большие явления на микро-уровне атомов и молекул. Дело не в том, что конструктивистские объяснения ложны — конструктивисты внесли огромный вклад в наше понимание науки и техники и представляют собой полезную противоположность мезо-уровневой теории современности. Но, взятый отдельно от мезо- и макро-масштабов, конструктивизм предлагает близорукий взгляд на отношения между технологией, обществом и природой.
Во-вторых, мой многоуровневый подход даёт возможность сформулировать ещё одно соображение. Причиной популярности конструктивизма и микроуровневых методов в научном сообществе могут быть силы, действующиt на мезо- и макро-уровне, которые мы привыкли не замечать. После Второй Мировой войны число учёных выросло, и образовательные учреждения и дисциплины ответили на это возрастанием научной специализации. Так появились новые ниши (рабочие места и академические журналы). Эта специализация (состояние модерности?) заставляет учёных концентрироваться на всё более и более мелких отрезках времени и пространства. Историческая дисциплина, к примеру, требует таких тем (и архивных источников), что историк может надеяться овладеть ими лишь через несколько лет. Работая как правило в одиночку или в малых группах, историки слабо приспособлены к тому, чтобы изучать явления на этом масштабе. То же можно сказать о социологии, антропологии и других эмирических подходах к исследованию модерности. Современные исследователи привыкли относиться к масштабными эмпирическим исследованиям снисходительно — вероятно, потому, что они должны содержать ошибки в детализации, которая так важна.
Многоуровневое исследование требует огромной глубины знаний — большей, чем можно ожидать от большинства людей поодиночке. Социология и история знают мало примеров по-настоящему групповой работы, которая требует координации, согласования методов и разделения интеллектуальной работы. Может быть, слишком смело было бы надеяться, что наши дисциплины будут развиваться в таком направлении, особенно если учесть существующую систему вознаграждения в большинстве академических учреждений. Но если я прав в том, что многоуровневый подход является ключом к пониманию технологий и модерности, мы должны хотя бы попытаться.
В этой главе я постарался показать, что изучение инфраструктур на различных масштабах силы, времени и социальной организации дает разные картины того, как инфраструктуры развиваются и влияют на частную и социальную жизнь. Перспективы разных масштабов по-разному демонстрируют устойчивость «нововременной установки», которая разделяет природу, общество и технологию.
В исследованиях модерности технология — это основание для обобщённого «состояния» модерна (или постмодерна). То есть эти исследования смотрят на технологию на мезо-масштабе (Borgmann, 1984; Borgmann, 1992; Harvey, 1989). Такой анализ обычно работает с историческим масштабом времени, от десятилетий до столетий. Основными участниками развития инфраструктур оказываются крупные институты, типичная форма модерности. Инфраструктуры — большие, умножающие силу системы. Они соединяют людей и учреждения на больших масштабах пространства и времени. Поэтому инфраструктуры представляются образом модерности, то есть подчинения системам, бюрократиям, технике и всеобъемлющей власти. На мезо-уровне можно эмпирически наблюдать инерцию (momentum) инфраструктур. Это значит, что инфраструктуры не подконтрольны индивидам, группам и, возможно, любой форме социального действия, у них есть собственная власть. Инфраструктуры составляют рукотворную среду, отделяющую модерную жизнь от природы и конструирующую природу как товар, ресурс и объект романтической утопии. И усиливающую тем самым «нововременную установку».
Однако, на микро- и макро-масштабах видно другое.
Начнём c макро-масштаба. Сила — инфраструктуры и природа скорее пересекают друг друга, чем оказываются разделены. Инфраструктура создаёт системные уязвимости, а не отделяется от природы, и формирует отношения обмена между технологиями и природой посредством топлива и отходов — вплоть до антропогенного глобального изменения окружающей среды. Время и социальная организация — инфраструктуры это решения системных проблем потока для нужд промышленного капитализма: как производить, перевозить и продавать возрастающие объёмы товара и как управлять общей системой производства-дистрибуции-продажи (Хьюз мог бы назвать это максимизацией «коэффициента нагрузки» («loan factor»)). На этом масштабе структура и форма инфраструктур постоянно меняются. Отдельные технологии и системы менее важны, чем функции, которые они выполняют. Таким образом, инфраструктуры становятся постоянно меняющимся социальным ответом на проблемы материального производства, коммуникации, информации и управления, а не жёстким фоном для подавляющих технологий.
В микро-масштабной перспективе, то есть с точки зрения социального конструктивизма, особенно такого, который интересуется действиями пользователей, становится видно, что индивидуумы и небольшие, спонтанно появившиеся социальные группы формируют и меняют инфраструктуры, создавая собственную версию модерности. Они активно используют новые инфраструктуры. Время здесь тоже имеет значение — форма и функции инфраструктур смещаются и изменяются, хоть и по другим причинам, чем на макро-масштабе.
Если «быть модерным» – это «жить внутри взаимосвязанных инфраструктур», значит, одновременно это и «пребывать на пересечении различных масштабов силы, времени и социальной организации». Моя концепция «взаимной настройки» описывает один процесс, посредством которого акторы микро-уровня взаимодействуют с институтами мезо-уровня. Несомненно, другие такие процессы ждут своих исследователей. Что касается взаимодействия мезо- и макро- уровней, я придерживаюсь описания инфраструктур с точки зрения функций, а не технологий.
Этот многоуровневый эмпирический подход помогает увидеть проблемы с большинством концепций «модерности», поскольку эти концепции существуют в мезо-масштабной перспективе. Есть ли в самом деле одно состояние, которое можно описать как «модерное»? Или это современная форма идеализма, абстракция, которая соответствует реальности только в одном масштабе? Микроуровневые подходы, ориентированные на пользователя, предполагают, что власть и подчинение лишь частично описывают сложные (и активные) отношения акторов, технологий и институций. С другой стороны, макроуровневые подходы указывают на тенденцию к интеграции инфраструктур, чему способствуют и новые информационные технологии. Однако, эта интеграция ведёт, похоже, не только к укреплению модерной власти государств/корпораций, но и к децентрализованному, изменчивому «сетевому обществу», чьи постмодерные измерения только начинают быть видимыми.
Тогда, вероятно, «модерность» — в некоторой степени атрибут мезо-уровневого исследования, и противоядием может стать предложенный здесь многоуровневый подход.
Закончу «вполголоса», двумя важными отступлениями.
Во-первых, социально-конструктивистский подход, популярный нынче в STS, на практике неотличим от исследований на микро-масштабе (Misa, 1988; Misa, 1994). Такие исследования почти всегда обращаются к ранним фазам технологических изменений, когда технологии ещё новые, заметные и противоречивые. Именно тут действия отдельных людей и небольших групп наиболее важны. Например, вмешательство пользователя в проектирование сети тем менее значимо и эффективно, чем сильнее стандарты и чем больше инфраструктура. Классический аргумент социальных конструктивистов: если технология когда-то была противоречивой, она может стать такой снова. И/или что для поддержания любой технической системы нужны постоянные социальные усилия. Конструктивисты как правило скептически относятся к макромасштабным объяснениям, но иногда обращают внимание мезо-уровня.
Я считаю, что конструктивистские аргументы не только зависят от микро-масштаба, но и действуют благодаря редукции до микро-масштабов времени и социальной организации. звучит так себе, но это дословный перевод. к сожалению, в тексте есть три что ли места — вот таких, где не вполне понятно, что в точности хотел сказать поэт. их я перевожу дословно Это современная форма редукционизма, похожая на требование физиков объяснять все большие явления на микро-уровне атомов и молекул. Дело не в том, что конструктивистские объяснения ложны — конструктивисты внесли огромный вклад в наше понимание науки и техники и представляют собой полезную противоположность мезо-уровневой теории современности. Но, взятый отдельно от мезо- и макро-масштабов, конструктивизм предлагает близорукий взгляд на отношения между технологией, обществом и природой.
Во-вторых, мой многоуровневый подход даёт возможность сформулировать ещё одно соображение. Причиной популярности конструктивизма и микроуровневых методов в научном сообществе могут быть силы, действующиt на мезо- и макро-уровне, которые мы привыкли не замечать. После Второй Мировой войны число учёных выросло, и образовательные учреждения и дисциплины ответили на это возрастанием научной специализации. Так появились новые ниши (рабочие места и академические журналы). Эта специализация (состояние модерности?) заставляет учёных концентрироваться на всё более и более мелких отрезках времени и пространства. Историческая дисциплина, к примеру, требует таких тем (и архивных источников), что историк может надеяться овладеть ими лишь через несколько лет. Работая как правило в одиночку или в малых группах, историки слабо приспособлены к тому, чтобы изучать явления на этом масштабе. То же можно сказать о социологии, антропологии и других эмирических подходах к исследованию модерности. Современные исследователи привыкли относиться к масштабными эмпирическим исследованиям снисходительно — вероятно, потому, что они должны содержать ошибки в детализации, которая так важна.
Многоуровневое исследование требует огромной глубины знаний — большей, чем можно ожидать от большинства людей поодиночке. Социология и история знают мало примеров по-настоящему групповой работы, которая требует координации, согласования методов и разделения интеллектуальной работы. Может быть, слишком смело было бы надеяться, что наши дисциплины будут развиваться в таком направлении, особенно если учесть существующую систему вознаграждения в большинстве академических учреждений. Но если я прав в том, что многоуровневый подход является ключом к пониманию технологий и модерности, мы должны хотя бы попытаться.
Примечания:
[1] В этом тексте мы будем переводить modern и modernity как «модерн», «модерный», «модерность». Нам представляется, что Эдвардс имеет в виду не историческую эпоху модерна, а модерн как интеллектуальный, культурный и мн. др. проект. При этом мы сохраняем перевод словосочетания «modernist settlement» как «нововременная установка», следуя за вариантом, предложенным Д. Калугиным в переводе книги Бруно Латура «Нового времени не было» и закрепившимся в русскоязычных текстах — прим. пер.
[2] Большинство пользователей сталкиваются не с самими «компьютерами», то есть с программируемыми машинами общего назначения, а с их различными прикладными применениями, запрограммированными заранее: кассовые аппараты в продуктовых магазинах, системы для проката автомобилей, каталоги библиотек, интернет-браузеры (Landauer 1995). Ещё более незаметны для рядовых пользователей вездесущие «встроенные» микропроцессоры, находящиеся повсюду — от автомобилей до холодильников.
[3] Пол Эдвардс использует слово scale, которое на русский можно перевести двумя способами: как «масштаб» и как «уровень». Нам представляется, что «масштаб» подходит лучше всего. По двум причинам: потому что есть дискуссия о масштабе и технологиях в STS и исследованиях инфраструктур, и потому что масштаб интуитивно связан с «ближе-дальше». С этим работает Томас Миса в своей статье о трёх масштабах в исторических исследованиях технологий, на которую ссылается Эвардс. Однако, «масштаб» не всегда удачно подходит в смысле стилистики. Поэтому мы будем использовать оба варианта перевода как синонимичные — прим. пер.
[4] Semi Аutomatic Ground Environment, одна из первых крупномасштабных компьютерных сетей, построенная ПВО США и предназначавшаяся для полуавтоматической координации действий самолётов-перехватчиков ракет — прим. ред.
[5] Хочу выразить признательность своему другу и коллеге Стефану Шнайдеру, настойчивость которого в вопросах важности масштаба для исследований климата впервые побудила меня задуматься над этими вопросами.
[6] Скорость, которая может быть понята как применение усиления мощности к проблеме человеческого времени, это ещё один аспект модерности, созданный инфраструктурами. Здесь у меня нет возможности говорить об этом подробно, но см. например: Virilio (1986) и Rabinbach (1990).
[7] Эпохальный характер этих изменений привел Marvin (1988) к верной догадке о том, что предполагаемые темпы технологических изменений в конце XIX-го века были фактически даже выше, чем сегодняшние. См. также: Kern (1983).
[8] Небольшой размер не всегда соответствует короткой продолжительности. Например, базовые общественные единицы — семьи — способны сохранять единство на крайне долгих временных отрезках. Большой размер, в свою очередь, не гарантирует длительности во времени.
[9] Обзоры соответствующей литературы см.: Friedlander (1995a; 1995b; 1996)
[10] В современной Индии и Бангладеше программы микрокредитования сознательно распространяют схожую, ориентированную на сообщества телекоммуникационную стратегию. Деревенские женщины получают от Грамин банка (Grameen Bank) и других спонсоров сотовые телефоны. Затем они продают время разговора по телефону местным. Они зарабатывают деньги и при этом становятся центром деревенской жизни существенно новым способом.
[11] Очевидная игра слов: panoptic power, corporate surveillance обыгрывают концепты, разрабатываемые М. Фуко – образ паноптикума и действие surveillance (наблюдение, присмотр), давшее название его работе Surveiller et punir, 1975 («Наздирать и наказывать», рус. пер. 1999) — [прим. пер.]
[12] Работники предприятий вначале противились повсеместному использованию телефона, потому что он не оставлял письменной записи. Факс, подключенный к телефонному кабелю, сегодня отвечают за функцию записи.
[13] Микро-исследования, безусловно, покажут систематические, хотя и незначительные изменения в содержании и форме сообщений, отправляемых посредством разных инфраструктур, например, «горячие» и «холодные» медиа Маклюэна или недавние исследования различий между электронной почтой и другими формами общения в коммерческих организациях (Sproull & Kiesler 1991). Мне представляется, что эти различия тоже можно рассматривать как масштаб.
[14] «Реверсивным выступом» Томас Хьюз называл такие компоненты системы, которые отстали или не совпадают, несовместимы с другими компонентами. Строители системы обнаруживают их и определяют как критические проблемы, которые необходимо решить. — [прим. ред.]
[15] WWMCCS поступила на вооружение в 1972 году и в 1996 году была заменена Глобальной системой управления (Global Command Control System).
[16] Этот подход напоминает, конечно же, другие социологические попытки соотнести действующие лица и контексты самых разных размеров и способностей — диалектику структуры и субъекта действия у Гидденса (Giddens, 1979; Giddens, 1981) и акторно-сетевую теорию (Bijker, Law, 1992; Callon, Latour, 1981; Callon et al 1986; Latour, 1987). Мне нравится думать, что «взаимная ориентация» это более описательное и, следовательно, более полезное понятие.
[17] Так Эдвардс называет стратегию или даже этику ВВС США, которая состояла из: симпатии к силе и скорости удара, отвращения к оборонительным действиям и стремления использовать исключительно самолёты — прим. пер.
[18] Понятие «мифология» здесь используется в полном смысле, а не как противоположность настоящей, «правдивой» истории.
[19] Документ, содержащий технические спецификации и стандарты сети. Главной особенностью RFC была принципиальная открытость обсуждения. Предложения, которые не прошли первичный отбор в течение шести месяцев, попросту удаляли из базы. RFC используют до сих пор. — прим. пер.
[20] Я не буду называть автора этой реплики, поскольку она была произнесена в частной беседе. Скажу только, что трудно было бы найти более подходящего собеседника для этой темы.
[21] Так была подписана популярная карикатура в журнале «Нью-Йоркер» — одна собака, сидящая за компьютером, говорила эту фразу другой собаке.
[22] The Internet Index, vol. 24, в 1998 году 84% зарегистрированных доменов были в зоне .com. Эта цифра, вероятно, представляет сильно завышенную оценку числа коммерческих веб-сайтов, т.к. многие доменные имена зарегистрированы спекулянтами в надежде на последующую продажу (или корпорациями, пытающимися оставить их за собой) и уже не поддерживаются (или вообще никогда не поддерживались). Тем не менее, интернет в конце 1990-х годов использовали в немалой степени для коммерческих/экономических дел.
[1] В этом тексте мы будем переводить modern и modernity как «модерн», «модерный», «модерность». Нам представляется, что Эдвардс имеет в виду не историческую эпоху модерна, а модерн как интеллектуальный, культурный и мн. др. проект. При этом мы сохраняем перевод словосочетания «modernist settlement» как «нововременная установка», следуя за вариантом, предложенным Д. Калугиным в переводе книги Бруно Латура «Нового времени не было» и закрепившимся в русскоязычных текстах — прим. пер.
[2] Большинство пользователей сталкиваются не с самими «компьютерами», то есть с программируемыми машинами общего назначения, а с их различными прикладными применениями, запрограммированными заранее: кассовые аппараты в продуктовых магазинах, системы для проката автомобилей, каталоги библиотек, интернет-браузеры (Landauer 1995). Ещё более незаметны для рядовых пользователей вездесущие «встроенные» микропроцессоры, находящиеся повсюду — от автомобилей до холодильников.
[3] Пол Эдвардс использует слово scale, которое на русский можно перевести двумя способами: как «масштаб» и как «уровень». Нам представляется, что «масштаб» подходит лучше всего. По двум причинам: потому что есть дискуссия о масштабе и технологиях в STS и исследованиях инфраструктур, и потому что масштаб интуитивно связан с «ближе-дальше». С этим работает Томас Миса в своей статье о трёх масштабах в исторических исследованиях технологий, на которую ссылается Эвардс. Однако, «масштаб» не всегда удачно подходит в смысле стилистики. Поэтому мы будем использовать оба варианта перевода как синонимичные — прим. пер.
[4] Semi Аutomatic Ground Environment, одна из первых крупномасштабных компьютерных сетей, построенная ПВО США и предназначавшаяся для полуавтоматической координации действий самолётов-перехватчиков ракет — прим. ред.
[5] Хочу выразить признательность своему другу и коллеге Стефану Шнайдеру, настойчивость которого в вопросах важности масштаба для исследований климата впервые побудила меня задуматься над этими вопросами.
[6] Скорость, которая может быть понята как применение усиления мощности к проблеме человеческого времени, это ещё один аспект модерности, созданный инфраструктурами. Здесь у меня нет возможности говорить об этом подробно, но см. например: Virilio (1986) и Rabinbach (1990).
[7] Эпохальный характер этих изменений привел Marvin (1988) к верной догадке о том, что предполагаемые темпы технологических изменений в конце XIX-го века были фактически даже выше, чем сегодняшние. См. также: Kern (1983).
[8] Небольшой размер не всегда соответствует короткой продолжительности. Например, базовые общественные единицы — семьи — способны сохранять единство на крайне долгих временных отрезках. Большой размер, в свою очередь, не гарантирует длительности во времени.
[9] Обзоры соответствующей литературы см.: Friedlander (1995a; 1995b; 1996)
[10] В современной Индии и Бангладеше программы микрокредитования сознательно распространяют схожую, ориентированную на сообщества телекоммуникационную стратегию. Деревенские женщины получают от Грамин банка (Grameen Bank) и других спонсоров сотовые телефоны. Затем они продают время разговора по телефону местным. Они зарабатывают деньги и при этом становятся центром деревенской жизни существенно новым способом.
[11] Очевидная игра слов: panoptic power, corporate surveillance обыгрывают концепты, разрабатываемые М. Фуко – образ паноптикума и действие surveillance (наблюдение, присмотр), давшее название его работе Surveiller et punir, 1975 («Наздирать и наказывать», рус. пер. 1999) — [прим. пер.]
[12] Работники предприятий вначале противились повсеместному использованию телефона, потому что он не оставлял письменной записи. Факс, подключенный к телефонному кабелю, сегодня отвечают за функцию записи.
[13] Микро-исследования, безусловно, покажут систематические, хотя и незначительные изменения в содержании и форме сообщений, отправляемых посредством разных инфраструктур, например, «горячие» и «холодные» медиа Маклюэна или недавние исследования различий между электронной почтой и другими формами общения в коммерческих организациях (Sproull & Kiesler 1991). Мне представляется, что эти различия тоже можно рассматривать как масштаб.
[14] «Реверсивным выступом» Томас Хьюз называл такие компоненты системы, которые отстали или не совпадают, несовместимы с другими компонентами. Строители системы обнаруживают их и определяют как критические проблемы, которые необходимо решить. — [прим. ред.]
[15] WWMCCS поступила на вооружение в 1972 году и в 1996 году была заменена Глобальной системой управления (Global Command Control System).
[16] Этот подход напоминает, конечно же, другие социологические попытки соотнести действующие лица и контексты самых разных размеров и способностей — диалектику структуры и субъекта действия у Гидденса (Giddens, 1979; Giddens, 1981) и акторно-сетевую теорию (Bijker, Law, 1992; Callon, Latour, 1981; Callon et al 1986; Latour, 1987). Мне нравится думать, что «взаимная ориентация» это более описательное и, следовательно, более полезное понятие.
[17] Так Эдвардс называет стратегию или даже этику ВВС США, которая состояла из: симпатии к силе и скорости удара, отвращения к оборонительным действиям и стремления использовать исключительно самолёты — прим. пер.
[18] Понятие «мифология» здесь используется в полном смысле, а не как противоположность настоящей, «правдивой» истории.
[19] Документ, содержащий технические спецификации и стандарты сети. Главной особенностью RFC была принципиальная открытость обсуждения. Предложения, которые не прошли первичный отбор в течение шести месяцев, попросту удаляли из базы. RFC используют до сих пор. — прим. пер.
[20] Я не буду называть автора этой реплики, поскольку она была произнесена в частной беседе. Скажу только, что трудно было бы найти более подходящего собеседника для этой темы.
[21] Так была подписана популярная карикатура в журнале «Нью-Йоркер» — одна собака, сидящая за компьютером, говорила эту фразу другой собаке.
[22] The Internet Index, vol. 24, в 1998 году 84% зарегистрированных доменов были в зоне .com. Эта цифра, вероятно, представляет сильно завышенную оценку числа коммерческих веб-сайтов, т.к. многие доменные имена зарегистрированы спекулянтами в надежде на последующую продажу (или корпорациями, пытающимися оставить их за собой) и уже не поддерживаются (или вообще никогда не поддерживались). Тем не менее, интернет в конце 1990-х годов использовали в немалой степени для коммерческих/экономических дел.
Библиография:
- Beck, Ulrich. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.
- Borning, Alan. 1987. "Computer System Reliability and Nuclear War." Communications of the ACM 30: 112-31
- Bowker, Geoffrey C., and Susan Leigh Star. 1999. Sorting Things Out: Classification and its Consequences. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bracken, Paul. 1983. The Command and Control of Nuclear Forces. New Haven: Yale University Press.
- Castells, Manuel. 1996. The Rise of the Network Society. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.
- Edwards, Paul N. 1996. The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America. Cambridge, MA: MIT Press.
- Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society. Berkeley, CA: University of California Press.
- Heidegger, Martin. 1977. "The Question Concerning Technology." In Basic Writings, ed. David Krell, pp. 283-318. New York: Harper & Row
- Kern, Stephen. 1983. The Culture of Time and Space, 1880-1918. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kraybill, Donald B., and Marc Alan Olshan. 1994. The Amish Struggle with Modernity. Hanover, NH: University Press of New England.
- La Porte, Todd R. 1988. "The United States Air Traffic System: Increasing Reliability in the Midst of Rapid Growth." In The Development of Large Technical Systems, eds. Renate Mayntz, and Thomas P. Hughes, pp. 215-44. Boulder, CO: Westview Press
- La Porte, Todd R., ed. 1991. Social Responses to Large Technical Systems: Control or Adaptation. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- La Porte, Todd R. , and Paula M. Consolini. 1991. "Working in Practice but not in Theory: Theoretical Challenges of 'High-Reliability' Organizations." Journal of Public Administration Research and Theory 1: 19-47
- Landauer, Thomas K. 1995. The Trouble with Computers: Usefulness, Usability, and Productivity. Cambridge, MA: MIT Press.
- Latour, Bruno. 1999. Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Marvin, Carolyn. 1988. When Old Technologies Were New: Thinking about Electric Communication in the Late Nineteenth Century. New York: Oxford University Press.
- Misa, Thomas J. 1988. "How Machines Make History, and How Historians (and others) Help Them to Do So." Science, Technology, and Human Values 13: 308-31
- Misa, Thomas J. 1994. "Retrieving Sociotechnical Change from Technological Determinism." In Does Technology Drive History?, eds. Merrit Roe Smith, and Leo Marx, pp. 115-41. Cambridge, MA: MIT Press
- Nye, David E. 1997. Narratives and Spaces: Technology and the Construction of American Culture. Exeter: University of Exeter Press.
- Perrow, Charles. 1984. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. New York: Basic Books.
- Rabinbach, Anson. 1990. The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity. New York: Basic Books.
- Rochlin, Gene I. 1997. Trapped in the Net: The Unanticipated Consequences of Computerization. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sagan, Scott Douglas. 1993. The Limits of Safety: Organizations, Accidents, and Nuclear Weapons. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Star, Susan Leigh, and Karen Ruhleder. 1996. "Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces." Information Systems Research 7: 111- 34
- Tenner, Edward. 1996. Why Things Bite Back: Technology and the Revenge of Unintended Consequences. New York: Knopf.
- Virilio, Paul. 1986. Speed and Politics: An Essay on Dromology. New York, NY: Columbia University.
- Winner, Langdon. 1986. The Whale and the Reactor. Chicago: University of Chicago Press.
- Wittgenstein, Ludwig. 1958. Philosophical Investigations. New York: Macmillan